Что мне оставалось, как не рассказать ему всю правду?
Так мы и сидели – ни один из нас не проболтался, но тайны свои мы открыли друг другу как нельзя более ясно.
– Эти гипнагогические видения, – сказал Хью. – Они, верно, были ужасно убедительны.
– Да, это не простые «мокрые сны». Но такие вещи обычно недооценивают, что очень глупо.
После похорон Чарли Хью не смог пойти вместе со мной, чтобы развеять траурную атмосферу, так что я сидел один. Я знал, что Чипс возобновила сборы: она решила вернуться домой, в Англию, как только похоронили Эмили.
– Здесь меня больше ничто не держит, – сказала Чипс.
– Туда ее тоже больше ничто не тянет, – сказал Макуэри, узнав об этом. – Если она думает найти там Англию эпохи до тридцать девятого года, то ее ждет большое разочарование. Видел я этих людей, желающих по возвращении в Англию обрести Страну утерянной отрады, которой там никогда не оказывается. Но Чипс права в том, что здесь ее в самом деле ничто не держит.
Я знал это лучше всех. Десятью днями раньше, в ночь смерти Эмили, я пришел проведать Чарли на первом этаже, а когда уходил, то, повинуясь внезапному порыву, поднялся на второй этаж и постучал в дверь к Эмили. Она теперь так часто теряла сознание, что перестала возражать против моего присутствия, а я знал, что иногда мне удается немного поднять настроение Чипс – пусть хоть на несколько минут.
– Войдите, – сказала Чипс.
В комнате был только один источник света – ночник над кроватью, где лежала Эмили; и я с первого взгляда понял, что все кончено. Выражение муки исчезло с лица и, как часто бывает в смерти, сменилось спокойствием, которое выглядело как молодость – расцвет молодости.
Чипс сидела с чертежной доской на коленях, сосредоточенная, как любой уверенный в своих силах художник за работой. Она рисовала особым гибким пером, китайской тушью, по карандашному наброску из тонких линий, почти незаметных, но отчетливых для того, кто нанес их на бумагу. Я ничего не сказал, но сел чуть позади, чтобы не мешать. В следующие полчаса на бумаге появилась голова покойной, и красота, простота и мастерство этого рисунка превосходили все работы Чипс, виденные мною доселе.
Я знал ее только как гравера, а я не люблю гравюры, и особенно – маленькие, четыре на шесть дюймов, с изображением старых домов Торонто, ничего собой не представляющих (для всех, кроме, вероятно, гравера). Только позже, увидев письма к Барбаре Хепуорт, я понял, каким выдающимся художником была Чипс.
Она рисовала в классическом стиле, обозначая контуры линиями, без перекрестной штриховки или «теней». Сказать, что красота рисунка продиктована любовью, было бы сентиментальной чепухой, но, безусловно, рукой художника водила любовь очень особого рода.
– Кажется, довольно, – спокойно сказала Чипс.
Я промолчал, поскольку в этих обстоятельствах сказать было нечего. В моей похвале не нуждались, и она была бы лишь неуклюжим вторжением в очень личное – в оценку творцом собственной работы.
Чипс повернулась ко мне:
– Я в последнее время много думала обо всем и теперь уверена, что это была колоссальная ошибка.
– Что «это»?
– Вся эта история. Когда я так разозлилась на Гасси Гриля, что устроила Эмили сцену. Я настаивала, что либо она сейчас убежит со мной, либо следующие пятьдесят лет будет сервировать чаи соседям по деревне – днем, – а ночью ее будет лапать и терзать Гасси Гриль, и еще появятся трое-четверо детей, которых надо будет учить за огромные деньги и которых в будущем ждет точно такая же неживая жизнь. И я навязала ей этот выбор, потому что я всегда была сильнее, ну ты понимаешь – «решительная старшая ученица наставляет на путь истинный растерянную первоклашку». Я не уверена, что наш образ жизни подходил ей лучше всего. Может, ей все-таки нужен был мужчина. Может, даже Гасси, хоть он и осел. Моя милая бедняжка, она на самом деле вовсе не была художницей. Просто небольшое дарование. А я была так уверена, что смогу ее хвалить, и поощрять, и накачивать в нее теплый воздух, и тогда, может быть, в ней раскроется настоящий талант. И все это из-за любви. Джон, я ее по-настоящему любила. Любовь иногда такая сука, правда?
Скоро я лично убедился в правоте сурового определения Чипс. Пришла весна, и как-то утром я проснулся в изумлении и ужасе, сознавая, что влюблен в Эсме.
После маски [101]следует антимаска; после трагедии – фарс. Эмили Рейвен-Харт и Чарльз Айрдейл отыграли свои персональные драмы, которые в терминах их времени, их общественного положения и рамок их способностей следует называть трагедиями. Пришло время арлекинады, в которой старого, выжившего из ума Панталоне всячески дурят, играют над ним жестокие шутки и под гоготание толпы выставляют напоказ его старческую немощь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Робертсон Дэвис Чародей [litres] обложка книги](/books/432189/robertson-devis-charodej-litres-cover.webp)

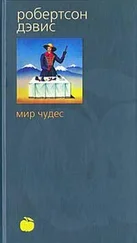






![Робертсон Дэвис - Убивство и неупокоенные духи [litres]](/books/435538/robertson-devis-ubivstvo-i-neupokoennye-duhi-litr-thumb.webp)
