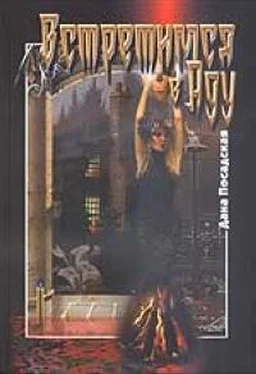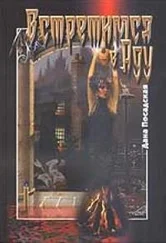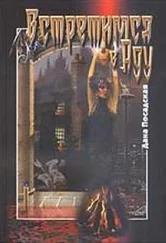Мариту бил студенистый озноб, и она бестолково тянула на плечи протёртую шаль, пахнувшую дымом. Ноги были чужие, холодные, а в глаза словно кто-то насыпал песка: они нестерпимо горели, и слёзы, незваные слёзы упрямо просились наружу. Откуда? Зачем? Она не могла ничего разобрать, только резко дышала, терзая ногтями безответную ткань на коленях. Ей казалось, будто дорога сужается с каждым ударом колёс по ухабам, а лес наступает, тёмный и жадный, готовый её раздавить, задушить, проколоть её сердце острыми ветками…
Она сжала ладони — колючие, влажные, — завозилась и утомлённо уткнулась лицом в плечо мужа; потёрлась губами о рыхлый ворс его тёплой несвежей рубашки, пронзительно пахнущей потом, вином, табаком, лошадью, Жаком…
Она вспомнила вдруг, как они поженились два года назад; как он её холил, точно ребёнка; как они рвали в каком-то саду огромные солнечно-жёлтые яблоки, и приторный сок стекал по губам, пачкая блузку…
Они были такой восхитительной парой: Жак — могучий и статный, точно ясень, обращённый в человека, и Марита, — черноглазая цыганочка, причудница, насмешница, янтарно- загорелая с бровями, изогнутыми в вечном изумлении.
Они поженились — и тут же отправились в путь: по дорогам, по серому щебню, по пылающей зеленью свежей траве и бурым осенним листьям. Жак был актёр и талантливый кукольник: он мастерил марионеток, а затем они оба — он и Марита, — вдували в них жизнь и забавляли толпу в деревнях и на ярмарках.
Жак надевал костюм Арлекина, рисовал себе алый клоунский рот, а жене подводил, не скупясь, ресницы и брови, так что Марита вмиг становилась похожа на томную деву с Востока, чьи антрацитово — чёрные косы пахнут розовым маслом, а кожа сияет ярче червонного золота.
Жак был неплохой актёр; а в Марите всегда жило что-то, заставлявшее вкладывать душу, — всю, без остатка, — в нелепые создания из тряпок, бумаги и потемневшего дерева.
Ведомые их ловкими руками, куклы жили и умирали, хихикали и голосили от горя, влюблялись и исходили желчью, целовались взасос и с треском лепили друг другу пощёчины. Голубоглазые скромницы-пастушки ловко падали прямо в объятия доблестных рыцарей, грозно бряцавших картонным мечом и жестяными доспехами. Романтичные принцы вещали стихами со смелыми рифмами, пели романсы и потрясали плащами из чёрного плюша, побитого молью (плюш играл роль роскошного бархата).
Иногда после всех этих сценок Марита плясала — смуглое чудо, волчок в шелестящем облаке красных и розовых юбок. Поодаль скромно стояла фетровая шляпа, и время от времени кто-то бросал туда медяки. Но этих монет было мало — отчаянно мало. Мало, чтобы купить материал для новых актёров, взамен облысевших и покалеченных; мало, чтобы сменить развалюху — фургон; мало, чтобы хоть иногда вдоволь наесться самим и накормить одряхлевшую верную лошадь.
Но всё это было не так уж важно. У Мариты был Жак, а у Жака — Марита. И у них были куклы — забавный народец, дремавший в старинном сундуке на дне фургона.
Вечные странники, грустные клоуны, с лицами в белой муке вместо пудры… Жак и Марита, Марита и Жак.
Лишь иногда, в бессонные ночи, слушая храп захмелевшего Жака, и баюкая куклу, смотревшую слепо и безразлично, Марита вдруг ощущала холодный тянущий ужас. Ей начинало казаться, что всё это сон, бесконечный и безысходный, сон от которого ей не проснуться. Фургон превращался в тюремную камеру, в гроб; а дорога, бегущая из-под колёс, вела в никуда, в пустоту и туман. Но утром она просыпалась, помадила губы и вновь выходила на гулкую площадь; и смеялась над тем, как их человечки плясали на тонких невидимых нитях, играли в людей на глазах изумлённой толпы.
… Что-то мелькнуло в ночной темноте, искрящейся чёрной мозаикой. Пронеслось, распороло хрустящий морозный воздух, чуть не задев щёку Мариты. Она закричала, как от ожога:
— Жак! О, господи, Жак!
— Марита, в чём дело? — Он обернулся, огрев полусонную лошадь поводьями. — Снова змея?
— Нет! Летучая мышь!
— Ну и что? Глупая девочка! — Он равнодушно дёрнул плечом. — Послушай. Придётся нам ночевать в лесу. До деревни мы всё равно раньше, чем к утру, не доберёмся.
Нет, Жак! — хотела она закричать, но стиснула зубы. Ей показалось, что лес понимает каждое слово. Куда ни посмотришь — лес, политый серебряной лунной патокой, беспощадно изрезанный венами серых дорог. И на одной из дорог, в самом сердце паучьей сети — их фургон, — одинокий, ничтожный; разбитая лодка на дне океана…
Читать дальше