Первого я убил ударом ногой в переносицу, второго, пытавшегося вытащить оружие, выбросил из окна, выбив им раму, и выпрыгнул следом за ним, прежде чем остальные успели произвести хотя бы один выстрел. Его тело смягчило мое падение. Потом завыли сирены, затрещали выстрелы, но я уже мчался в угол двора, где хранились съестные припасы, затем взбежал по штабелю бочек на стену и спрыгнул с нее наружу.
Тюрьма находилась на полуострове, окруженном с трех сторон океаном. С четвертой к нему подступали джунгли, где я и укрылся, прежде чем они успели меня перехватить. Гоняться за мной ночью по непроходимому лесу никому не хотелось, и чем дальше я углублялся в заросли, тем больше отставала погоня. Наконец я вышел к реке и вместе с подступавшим приливом двинулся вверх по течению. К рассвету я удалился в глубь материка настолько, что у них уже не осталось шансов меня найти. Но тут начала брать свое боль. Чтобы унять ее, я, главным образом с помощью зубов, собрал кое-какие знакомые мне целебные корни, однако влажная сырость тропического леса грозила быстрым распространением инфекции, а позволить себе вернуться в город, чтобы обратиться к врачу, я, разумеется, не мог. Вся надежда была на сведущих во врачевании энагуа, живших выше по реке. Путь до их деревни занял у меня шесть дней. И добрался я до них полумертвым, в горячечном бреду.
Джек разложил руки на коленях, расставил веером оставшиеся пальцы и, бесстрастно глядя на них, продолжил:
— Их знахарь ампутировал мне наиболее поврежденные пальцы. Остальные спас, но как прошла вся эта операция, я не помню. Когда я проснулся, прошло два дня. Мои руки были покрыты целебной мазью, наложен компресс из листьев. Они не спрашивали меня ни о чем, я, со своей стороны, ни о чем им не рассказывал: по их представлениям о внешнем мире, жестокость там — обычное дело. Прошло два месяца, прежде чем я окреп достаточно, чтобы пуститься в путь, и тогда трое энагуа отвезли меня на каноэ вниз по реке. На сей раз в обличье священника: так появился на свет отец Девин. Они доставили меня на север, в Порто-Сантана, где мне предстояло сесть на пароход. Правда, у меня оставалось еще одно дело в Белеме.
С помощью друзей я наполнил днище фургона порохом, похищенным с военного склада, а потом отыскал в Белеме Рину. Она работала в борделе. Наркотики уже обезобразили ее внешность, маленькая жизнь быстро клонилась к печальному предсказуемому концу. Я забрал ее оттуда, привязал к сиденью фургона с кляпом во рту. Так и не сказал ей ни слова, только взглянул в глаза. Да и что было говорить, она и так прекрасно все поняла.
Когда стемнело, мы направили двух мулов с фургоном позади рысцой в сторону тюрьмы; стражники увидели Рину и завели фургон в ворота. Они не заметили горящего запала, скрытого под дном фургона, и из-за ее пронзительных криков — кляп стражники вытащили — никто не услышал, как он шипел. Зато взрыв было слышно на пятьдесят миль.
Спаркс умолк, сглотнул и сделал вдох. Был ли в его словах хоть намек на сожаление? Дойл ничего подобного не почувствовал, только удары собственного сердца.
— На следующее утро я взошел на борт корабля с документами голландского бизнесмена Яна де Ворта, умершего в верховьях реки. По моей версии, он возвращался домой после несчастного случая, искалечившего его руки: еще один европеец, ставший жертвой джунглей. Продолжать?
Дойл кивнул. Кто знает, раскроет ли Спаркс эту рану снова?
«Придержи свой язык, — сказал он себе. — Вспомни, как пациент, бессвязно перескакивая с одной мысли на другую, частенько неосознанно открывает тайну своего недуга».
Он снова наполнил свой бокал, уповая на то, что Джек не заметит, как сильно дрожат его руки.
— Я неспешно двинулся на север через острова Курасао, Антигуа, Эспаньола. Никакой определенной цели у моего путешествия не было: я просто впитывал солнце, заново разрабатывал руки, снова и снова погружая их в горячий песок. Налегал на ром, в каждом новом месте находил новую женщину и уходил, как только от нее уставал. На это много времени не требовалось: все они жалели бедного калеку, а это было так предсказуемо и утомительно. И каково же было выражение лица каждой из этих женщин, когда они понимали, что я ни на йоту им не принадлежу!
Однажды я высадился в Нью-Йорке и, хотя поначалу полагал, что это будет лишь краткая остановка, задержался на три с лишним года, меняя имена и легенды. Америка хороша тем, что там не слишком падки на вопросы и, что бы человек ни говорил о себе, готовы все принять на веру, если он способен подкрепить слова делом. Я больше не совершал преступлений, снова вел жизнь обычного человека. Шесть месяцев проработал землемером в Аллеганах, потом стал конюхом в Филадельфии, год пробыл возчиком в долине Огайо — заметь, маршрут тот же, каким движемся мы сейчас. И вот однажды, тогда я занимался погрузкой на Миссисипи, мне не удалось встать с постели, а глянув в зеркало, я себя не узнал. Крайнее душевное истощение подкралось так незаметно, что я не мог понять, в чем дело, а между тем каждая клетка моего тела полностью выработала свой ресурс. Мои руки постоянно болели, боль была глубокой, сильной и неотступной. С превеликим трудом я отправился в Нью-Йорк, благо накопленные средства позволяли несколько лет сводить концы с концами.
Читать дальше


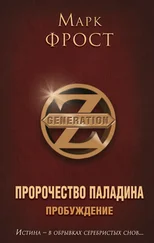

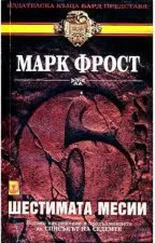
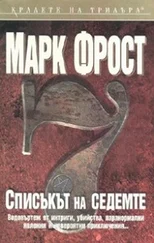





![Марк Фрост - Альянс [litres]](/books/428748/mark-frost-alyans-litres-thumb.webp)
