Уилл схватил ее, потому что не осталось никаких причин не делать этого. Сейчас, сию секунду, впиваясь в нее зубами, он не отрывает взгляда от кровавой лужи на полу. Но потом закрывает глаза.
И снова оказывается в озере крови, на сей раз даже без лодки. Он просто плывет под водой.
Под кровью.
Но пока он высасывает из девочки жизнь, его вновь посещает страшное озарение. Как позапрошлой ночью в «Черном нарциссе», с Изобель.
Этого мало.
Этого совсем не достаточно.
Этого не достаточно, потому что это не Хелен.
Хуже того, Ева на вкус почти такая же, как ее мать, а когда он пил Тесс, наслаждение полностью вытеснило память о той, кто неотступно занимает его мысли сейчас.
Нет.
Ее вкус мне не нравится.
Никто мне не нравится, кроме Хелен.
И как только эта истина четко проступает в его мозгу, кровь, которую он глотает, становится ему отвратительна. Воображение рисует Уиллу, как он выныривает на поверхность озера и жадно хватает ртом воздух.
Он вдруг осознает, что уже выпустил Еву. Еще живую.
Ну и наплевать, думает он с непоколебимым детским упрямством.
Он не хочет пить эту кровь.
Он хочет крови Хелен.
Ева пока еще жива, но она умрет. Глядя, как она хватается за горло и кровь ручейками течет сквозь пальцы на майку с неизвестной ему группой, Уилл чувствует себя как никогда опустошенным. Разбитая бутылка на полу, утратившая свое ценное содержимое, — это он сам.
Девочка в изнеможении прижимается к кафельной стене и испуганно смотрит на него.
Лица некровопьющих всегда такие выразительные! На них читается столько бессмысленных нюансов, призывающих тебя… к чему? К раскаянию? Стыду? Жалости?
Жалость.
С тех пор как он с тремя другими паломниками навещал лорда Байрона, когда тот умирал в одиночестве в своей пещере на Ибице, Уилл ни разу не испытывал жалости. Древний поэт, проживший несколько веков, был изможден и бледен, точно призрак самого себя, он лежал в лодке со свечой в руках. Но и тогда — была ли это и впрямь жалость или же просто страх перед собственной судьбой?
Нет, думает он.
Жалость лишь делает тебя слабее. Как и сила притяжения. То и другое нужно, чтобы удерживать некровопьющих и воздерживающихся на земле, на своих убогих местах.
Джеред прятался в кустах на Орчард-лейн больше часа, ожидая увидеть какое-нибудь подтверждение тому, что Элисон Гленни сказала ему правду. То есть тому, что Уилла Рэдли убьет его невестка. Какое-то время ничего не происходило, но незнакомая машина, припаркованная в начале улицы, несколько обнадеживала. Машина Гленни, надо полагать. Однако все его надежды разбились, когда он увидел, что кто-то вышел из дома.
Это был Уилл Рэдли. Живой.
Сначала он скрылся в своем фургоне, потом и вовсе улетел. Наблюдая за ним, Джеред ощутил болезненный спазм в желудке. В какой-то момент он думал, что его и в самом деле вырвет (было бы неудивительно после целой банки чеснока), но резкий порыв холодного ветра помог справиться с тошнотой.
— Нет, — сказал Джеред окружавшей его зелени. — Нет, нет и нет.
Затем он вылез из кустов и медленно направился в сторону дома. Проходя мимо машины Элисон Гленни, он постучал в окно.
— Накрылась ваша затея.
Она была в машине не одна. Рядом с ней восседал пузатый неуклюжий гладко выбритый детектив, которого Джеред видел впервые, и потрясенно таращился в небо через лобовое стекло.
— Мы дали ей срок до полуночи, — отрезала Элисон тем же ледяным тоном, каким уведомляла его об увольнении. — Время у нее еще есть.
Окно с тихим жужжанием закрылось, и Джереду ничего не оставалось, кроме как пойти домой.
«Доказательство существования вампиров — это не что иное, как доказательство вашего безумия», — как-то сказала ему Элисон. Она же пригрозила, что если он хоть кому-нибудь, хотя бы дочери, изложит свою версию гибели жены, его снова запрут в дурдоме, уже до конца жизни.
Джеред вздохнул, зная, что в полночь Уилл Рэдли будет жив.
Все бесполезно.
Он находился в той же деревне, что и Уилл, однако ровным счетом ничего не мог поделать. И он шел дальше, мимо паба, мимо почты, мимо гастронома, где продавались праздничные закуски, которые он не мог бы себе позволить, даже если бы хотел. В освещенной витрине красовалась доска в деревянной раме, рекламирующая пармскую ветчину, оливки «мансанилья», жаренные на гриле артишоки и марокканский кускус.
Мне тут не место.
Читать дальше
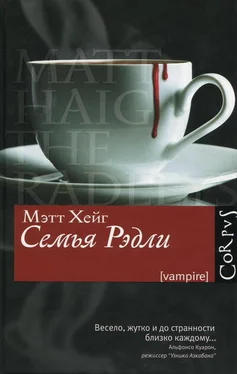
![Мэтт Хейг - Влюбиться в жизнь [Как научиться жить снова, когда ты почти уничтожен депрессией]](/books/28868/mett-hejg-vlyubitsya-v-zhizn-kak-nauchitsya-zhit-sn-thumb.webp)






![Мэтт Хейг - Клуб призрачных отцов [litres]](/books/392121/mett-hejg-klub-prizrachnyh-otcov-litres-thumb.webp)
![Мэтт Хейг - Отец Рождество и Я [litres]](/books/421076/mett-hejg-otec-rozhdestvo-i-ya-litres-thumb.webp)


