– О Христос, мой трагичный Христос! – прошептал я. – Нерукотворный! – вскричал я. – Какие жалкие слова, слабые, полные грусти. – Это человеческое лицо, лицо Бога и Человека. У него идет кровь. Ради Бога всемогущего, вы только посмотрите!
Но я не издал ни звука. Я не мог двигаться. Я не мог дышать. От потрясения я беспомощно упал на колени. Мне хотелось никогда не сводить с него глаз. Мне вообще больше ничего никогда не хотелось. Только смотреть на него, и я его увидел, я оглянулся назад, назад, через века, на его лицо при свете глиняной лампы, горящей в моем доме в Подоле, на его лицо, взирающее на меня с доски, что я сжимал дрожащими пальцами среди свечей скриптория Печерской лавры, на его лицо, которого я никогда не видел на великолепных фресках в Венеции и Флоренции, где я так долго и отчаянно его искал. В его лице, в мужском лице, присутствовало и божественное, мой трагичный Бог, когда-то взирающий на меня из рук матери в морозной слякоти на улице Подола, мой Господь в кровавом величии. Мне было все равно, что говорила Дора. Мне было все равно, что она прокричала вслух его священное имя. Все равно. Я все узнал. И когда она возвестила о своей вере, когда выхватила покрывало из рук самого Лестата и выбежала с ней из квартиры, я последовал за ней, за ней и за покрывалом, хотя в святилище моего сердца я так и не двигался. Я не шелохнулся. Мой разум охватила полная неподвижность, а что делало мое тело, не имело значения. Не имело значения, что Лестат спорил с ней и предупреждал, чтобы она не смела в это верить, что мы втроем стояли на ступеньках собора, что с невидимых и бездонных небес, как благословение, падал снег. Не имело значения, что скоро встанет солнце, яростный серебряный шар под пологом тающих облаков. Теперь я мог умереть. Я увидел его, а все остальное – слова Мемнока и его воображаемого Бога, мольбы Лестата уходить, спрятаться, пока нас всех не поглотило утро – не имело значения. Теперь я мог умереть.
– Нерукотворный, – шептал я. Вокруг нас у входа собиралась толпа. Восхитительным, сильным порывом из церкви хлынул теплый воздух. Какая разница?
– Покрывало, покрывало! – кричали они. Они увидели! Они увидели его лицо. Стихали отчаянные умоляющие вопли Лестата. Спустилось утро, а с ним – и грозовой, раскаленный добела свет, перекатываясь через крыши и осадив ночь тысячей стеклянных стен, постепенно выпуская на свободу свое чудовищное великолепие.
– Будьте свидетелями, – сказал я. Я воздел руки навстречу ослепительному свету, расплавленной серебряной смерти. – Этот грешник умирает за него! Этот грешник уходит к нему! Низвергни меня в ад, Господи, если такова твоя воля. Ты дал мне небеса. Ты показал мне свое лицо. И твое лицо было лицом человека.
Я взлетел ввысь. Я ощутил всепоглощающую боль, испепеляющую всю мою волю или способность выбирать скорость. Внутренний взрыв отбросил меня к небу, навстречу жемчужно-белому свету, внезапно на секунду, как всегда, хлынувшему настоящим потоком из грозного глаза, раскинув бесконечные лучи по всему широкому городу, превратившись в приливную волну невесомого расплавленного освещения, прокатившегося по всем созданиям и предметам, большим и малым. Я поднимался все выше и выше, кругами, словно напряжение внутреннего взрыва не ослабевало, и, к своему ужасу, я увидел, что вся моя одежда сгорела, а от тела навстречу бушующему ветру валит дым. На миг я увидел всю картину целиком – мои голые вытянутые руки и вывихнутые ноги, силуэт на фоне всезатмевающего света. Моя плоть уже обгорела дочерна и, блестя, припечаталась к сухожилиям моего тела, сжалась до сложного сплетения мышц, облегавших кости. Боль достигла зенита и стала невыносимой, но как мне объяснить, что для меня это не имело значения; я направлялся навстречу собственной смерти, а эта бесконечная, на первый взгляд, пытка, была ерундой, обычной ерундой. Я выдержал бы все, что угодно, даже жжение в глазах, даже сознание того, что они сейчас расплавятся или взорвутся в солнечной печи, и что я лишусь плотской оболочки. Картина резко изменилась. Ветер больше не ревел, мои глаза успокоились и прояснились, вокруг зазвучал знакомый хор гимнов. Я стоял у алтаря и, подняв голову, я увидел перед собой церковь, переполненную людьми, среди поющих ртов и удивленных глаз вверх поднимались расписные колонны, как масса разукрашенных древесных стволов. И справа, и слева меня окружала эта необъятная, безграничная паства. У церкви не было стен, и даже высокие купола, украшенные чистейшим блестящим золотом с отчеканенными святыми и ангелами, уступили место величественному, бесконечному голубому небу. Мои ноздри затопил запах ладана. Вокруг меня в унисон звонили крошечные золотые колокольчики, один рифф нежной мелодии быстро переливался в другой. Дым жег мне глаза, но это становилось все приятнее по мере того, как меня заполнял аромат ладана, заставляющий слезиться глаза, и мое зрительное восприятие сливалось с тем, что я пробовал, трогал и слышал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
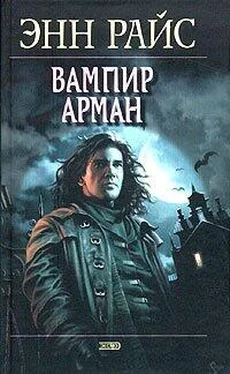




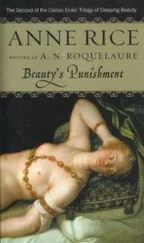




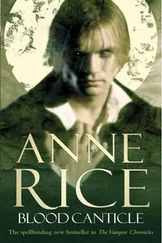
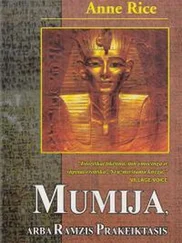
![Энн Райс - Интервью с вампиром [litres]](/books/422071/enn-rajs-intervyu-s-vampirom-litres-thumb.webp)