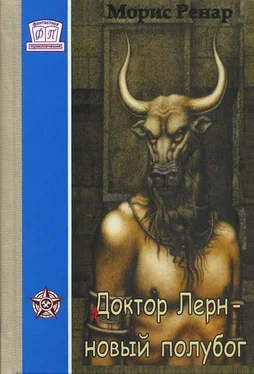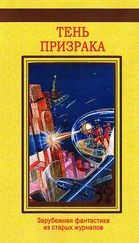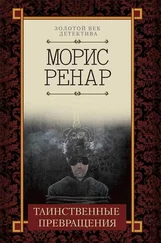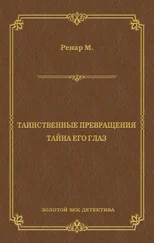А на дворе собаки снова выползли из своих будок и между ними теперь прогуливалась собака Донифана Мак-Белля, Нелли. Она кашляла. Ее коротко остриженная шкура ни чем не напоминала теперь густой шерсти сенбернаров. Великолепная собака превратилась в тощий одер, голодный вид которого производил еще более странное впечатление рядом с его откормленными товарищами. На затылке Нелли тоже находилась повязка. Что ей устроил Лерн, чтобы заставить ее мучиться с той ночи, когда у них произошла схватка? Что за дьявольский опыт он произвел над ней?..
Казалось, что собака размышляет об этом самом, до того ее походка была уныла. Она держалась в стороне от остальных собак и, когда какой-то ретивый бульдог, задрав хвост, подбежал к ней объясняться в любви, она посмотрела на него так свирепо и так ужасно взвыла, что тот отлетел, как ошпаренный, и забился в свою будку, тогда как вся свора, как один человек, подняла в смущении свои замаскированные головы.
Добродетельная Нелли продолжала свой путь.
Чего я здесь торчал? Несмотря на страстное желание укоротить свои исследования и поторопиться к другому времяпрепровождению, что-то меня удерживало… что-то необъяснимое в поведении собаки, чего я никак не мог понять.
В этот момент я услышал мотив марша, донесшийся на крыльях ветра из Фонваля. Мои пальцы машинально выстукивали мотив на ветке дерева, и я заметил, что Нелли ускорила свой шаг и пошла в т а к т музыке.
Я вспомнил, как Эмма рассказывала о собаке, что она умела проделывать всякие цирковые штуки. Что же, это тоже была одна из цирковых штук, которым Мак-Белль научил свою собаку?.. Я был уверен, что в отсутствие дрессировщика, собака едва ли может проделывать такие фокусы, и я сомневаюсь, чтобы слуховое впечатление могло вызвать у животного такие машинальные движения, которые всегда были свойственны только нам и являются у нас следствием более сложных привычек, чем инстинкт.
Музыка прекратилась вместе с порывом ветра… Собака села, подняла глаза и… увидела меня… Ах, черт возьми, она залает, подымет тревогу!.. Ничего подобного! Она смотрела на меня без страха, без гнева, но с таким выражением в глазах… которого я никогда в жизни не забуду. Потом, опустив свою большую голову, она начала тихо, тихо стонать, делая лапой какие-то жесты. Затем она снова стала бродить по двору, все время тихо ворча и посматривая на меня очень осторожно, точно хотела обратить мое внимание на что-то, не привлекая внимания немцев. (Само собой разумеется, что это просто-напросто описательный прием, но все-таки можно было вообразить, что собака хотела что-то сказать, до того ее жалобный стон модулировал звуки, как слова; получалось впечатление длинной гортанной фразы, в которой все время повторялось: «эк-буал, экбуал». Все вместе напоминало что-то вроде плохо произносимого английского языка).
Появление трех помощников на месте действия прекратило это явление. Они шли через двор, и все собаки, во главе с Нелли, спрятались. Вильгельм, проходя мимо псарни, бросил туда сквозь решетку кусок покрытого кожей с волосами мяса. Кусок тяжело шлепнулся: это была мертвая обезьяна. Немцы вошли в правый дом, из трубы которого вскоре появился дымок.
Тогда одна за другой собаки подошли и стали обнюхивать шимпанзе. Бульдог первый вонзил в него зубы и тотчас же началась свалка; слышно было только глухое и злобное ворчание дерущихся из-за пищи псов. Одна только Нелли лежала на пороге своей будки, положив голову на скрещенные лапы, и смотрела на меня своими прекрасными глазами. Мне показалось, что я открыл причину ее худобы.
После этого в правом здании открылось окно; там я увидел стол, накрытый на три прибора. Дядины помощники собирались завтракать как раз напротив моего дерева. Пора было убираться отсюда.
Тут я совершил непростительную оплошность. Мне следовало бы обязательно отправиться расследовать вопрос о старом башмаке, — это ясно даже младенцу. А я уговорил себя, что сделал громадные уступки своему разуму, приняв всевозможные меры предосторожности; что старый башмак имеет массу шансов для того, чтобы быть просто-напросто старым башмаком, а вовсе не трупом, и даже неза-копанной ногой; и, наконец, что для великодушного сердца прекрасная женщина должна быть важнее всякой чепухи и, вообще, всего на свете.
И вот, обманывая самого себя всеми этими рассуждениями, я направился в замок.
Комната тети Лидивины служила местом для всякого хлама. Ее можно было принять за гардеробную комнату куртизанки. Несколько ивовых манекенов, одетых в очень изящные платья, представляли сборище кокетливых женщин без голов и без рук. Камин и столики были превращены в выставки модисток; на них лежали те, сделанные из перьев и лент, маленькие или чрезмерно большие штуки, которые превращаются в шляпы только тогда, когда они одеты на голову. На полу стоял целый батальон туфель и ботинок, одетых на колодки. Повсюду валялась бездна женских безделушек. Воздух был пропитан тонким и развратным ароматом — ароматом Эммы.
Читать дальше