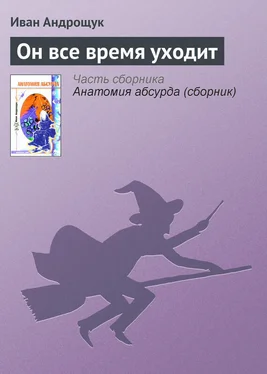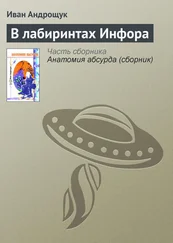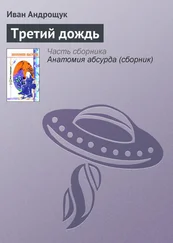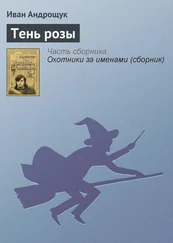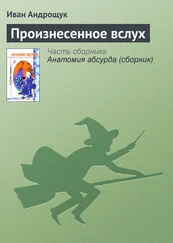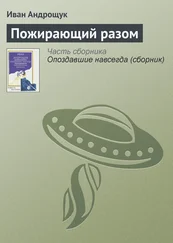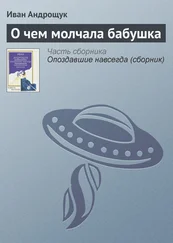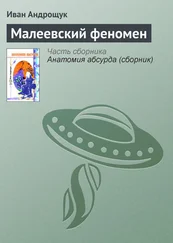Завтрашних гениев находили в канализационных колодцах и дымовых трубах, замурованными в стены, с отрубленными головами, расчленёнными. Дом Товии Бруна процветал. Конечно, не все авторы были столь кровожадны – у многих на сотнях страниц текла спокойная, размеренная жизнь с любовями и мелкими ссорами, никто никого не убивал, никто не выбрасывался из окна и не попадал под колеса.
Само собой, что таким авторам рассчитывать на бессмертье не приходилось. Хотя процесс работы «фабрики гениев» оставался тайной для непосвящённых и тайной за семью печатями для самих авторов, со временем её окружил ореол дурной славы. Кто-то из родственников погибших даже подал на Бруна в суд, обвиняя его в связях с нечистой силой. В суде, естественно, такую жалобу сочли курьёзной и не стали рассматривать. Однако приток рукописей в издательство резко сократился, а те, которые поступали, были на редкость бескровными: их авторы, связываясь с Товией, боялись искушать судьбу. Товия Брун медленно, но неуклонно уходил в тень.
Это была тень талантливейшего из учеников мастера – Нахума Архибластера. Нахум изобрёл новую тактику: в отличие от Товии, он сам пошёл к писателю. Через сеть знакомых выходил на автора, следил за его работой, и, как только книга была закончена, за ней приходил человек Архибластера. Автора по-прежнему убивали – но уже без помпы, при наспех состряпанных обстоятельствах. Оставить в живых литератора Нахум не мог – ему нужны были хорошие писатели, а если их не убивать, они быстро портятся. Охотника за рукописями стали называть «соавтором» – сперва на издательском арго, а вскоре и официально – имя охотника стали ставить на обложке книги под именем автора.
Так складывалась система. К бесспорным достижениям литературного процесса при Архибластере следует отнести то, что в это время из литературы ушли случайные люди, прекратился приток серости, который захлестывал её во все времена. Продолжали писать только те, кто не мог без этого, кто понимал – возможность писать – слишком большая роскошь, чтобы писать плохо. Но вместе с тем системе Архибластера было ещё далеко до совершенства – это было по сути дела хищническое истребление литераторов. Нахум не оставлял писателю малейшего шанса на выживание, и это могло привести к полному прекращению литературного процесса.
Этот шанс дал литератору пришедший после Нахума Менахем Кривой. Менахем принимает у соавторов только незаконченные книги – с некоторых пор публику больше интересует то, что автор не успел сделать, а не то, что он сделал. Таким образом; писатель теперь даже может издать свою книгу – если ему удастся её закончить. Шимон Поплавский до встречи со мной издал восемь книг – разумеется, один, без соавторов. Хотя главный соавтор – Смерть – всегда ходит рядом и не даёт размениваться на мелочи.
Но Шимон – скорее исключение, чем правило. Очень редкое исключение. Обычно соавтор ставит своё имя уже на второй, а то и на первой книге. Армия охотников столь многочисленна, что вокруг авторов четырёх-пяти книг разгораются целые войны (конечно, проще нащёлкать дюжину новичков, но уважающий себя охотник промышляет только крупной дичью). Разветвлённая сеть “знакомых” пронизывает все слои общества и не оставляет без внимания ни одной написанной строки. Писателей становится всё меньше и меньше, им снова грозит полное уничтожение. Раньше я сожалел бы об этом, но теперь, когда сам начал писать, понял: этого не произойдёт. Мы останемся. Потому что настоящий писатель – это не профессия, не призвание, даже не дар Божий, как многие полагают. О том, что такое писатель и как я узнал об этом, мой дальнейший рассказ.
Перед тем, как идти на Шимона Поплавского, я прочел всё его книги, от корки до корки. Это один из моих охотничьих секретов – изучив творчество писателя, я знаю его как облупленного. Это действовало безотказно – в тридцати двух случаях ни одного сбоя.
Когда я выходил на автора, я знал о нём все, я видел его насквозь и мог предугадать каждое из его движений.
О Шимоне я тоже узнал почти всё. Только один небольшой рассказ из его первой книги я не смог тогда разгадать. Рассказ этот назывался «Строители острова».
Старик нагружает лодку камнем и уплывает в море. Там, за чертой горизонта, он высыпает груз в волны и возвращается на берег. Снова загружается и снова увозит камень в море – на то же место. – Он – сумасшедший. Он насыпает остров, – говорят о нём. Так продолжается изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Странный лодочник невероятно стар. У него дрожат руки и ноги, он уже почти не может передвигаться по земле, он ослеп – но упорно продолжает свой нелепый труд. Наконец пьяные в дым молодые люди, решив поразвлечься, окружают старика в открытом море, переворачивают лодку и топят его. Когда лицо старика показывается над волнами в последний раз, на нём проступает радостная, почти ликующая усмешка избавления.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу