- И сам он — тоже там! — торжественно проговорил Третьяков.
В открытом салоне серого кабриолета, будто подтверждая эти слова, «во фрунт» вытянулся невысокий человек. Он приветствовал толпу: лениво, вяло, поводил над головой обеими руками; поворачивался то вправо, то влево.
Кабриолет подбирался к грузовикам, нагруженным ржавым железом. Телохранители — числом двенадцать человек — создавали вокруг него что-то вроде зоны отчуждения — мёртвого пятна, в форме куриного яйца. Они, казалось, раздвигали толпу практически без усилий, как будто каждый из них аккумулировал перед собой невидимую силовую стену. Это было тем более странно, что манифестанты, отстоявшие от лимузина хотя бы на десять метров, выглядели заледеневшими. Они стояли столбами, в абсолютной неподвижности, напряжённо вглядываясь в точку, где, в каждый момент времени, пребывал лимузин. О том, что они живы, свидетельствовали лишь зрачки, следившие за медленным продвижением открытого представительского авто.
Третьяков, морщась от боли и сильно прихрамывая, дерзнул рвануться навстречу машине. Навалился на плечи людей, минуту назад едва не убивших его. Попытался потеснить их, протиснуться между ними. В его действиях просматривалось явное отчаяние: он не размышлял о последствиях, не раздумывал о том, что атака на него может возобновиться; о том, что он сам может спровоцировать её. Он кряхтел, постанывал, наверняка, с трудом сдерживаясь, чтобы не закричать от боли. И напирал, напирал… пёр на рожон… Тщетно!
Соляные столпы, каменные истуканы, а не люди выстроились перед ним. Они не отвечали на толчки, не распускали кулаки и даже не огрызались. Но и не двигались с места. Ни на шаг. Ни на волос. Они казались неколебимы. «Ариец» бросался на их спины, как на частокол, сооружённый великанами из цельных древесных стволов. Кривился от боли, чертыхался, отступал, возобновлял попытки пробиться к Вьюну.
«Бом-тирлим-лим-бом-бом, бом-тирлим-лим-бом-бом», — над площадью вдруг раскатился мелодичный перезвон курантов. Четыре часа пополудни. Павла изумило это: они не провели на странном митинге и часа, а прожили здесь целую жизнь. И следующая мысль явилась — не умнее и не оригинальней первой: «Они всё ещё работают. Сколько ещё будет продолжаться этот звон после того, как от Босфорского гриппа умрёт последний человек в Москве». «Бом-бом-бом-бом», — протяжно и громогласно провозгласили точное время старинные часы. И пассажир лимузина, словно только и ждал этого колокольного знака, неожиданно превратился из вялой размазни — в монумент. Он вскинул вверх руки резким, резаным, движением. И крикнул страшно: «Воля! Жизнь!»
«Воля! Жизнь!» — визгливо прокричала некрасивая женщина средних лет — настоящий «синий чулок» в огромных выпуклых очках — слева от Павла.
«Воля! Жизнь!» — рявкнул громила, чьё ухо пострадало от пули, выпушенной из пистолета Серго.
«Воля! Жизнь!» — с театральным пафосом продекламировал мужчина, с которого, казалось, была заживо содрана кожа — так густо выступали на его лице и шее кровавые «варикозные» прожилки.
«Воля Жизнь!» — в едином порыве выдохнула площадь.
Вслед за руками Вьюна, — а Павел теперь разделял уверенность Третьякова: пассажир лимузина — Вьюн, и никто другой, — вверх рванулись руки десятков тысяч человек. На одно мгновение манифестанты наполнились неистовой силой, яростью и надеждой. Каждый возлюбил каждого. Каждый поверил в каждого. Больные — в то, что сумеют выздороветь, и всё у них будет, как было когда-то. Здоровые — в то, что смерть не так уж страшна, если нет нужды умирать в одиночестве и грязи.
- Он уезжает! Машина — уезжает! Я не вижу его за руками! — Третьяков, будто отвешивая себе самому пощёчины, смахивал со щёк злые слёзы отчаяния. Павел на миг впал в смятение, услышав его крикливую жалобу. Он как будто слегка осоловел, самую малость растворился в толпе; утратил способность понимать человеческий язык. Управдом чуть не поддался магии. Его чуть не охватила всеобщая блажь. Чуть не накрыла с головой гнилая любовь, — зараза, какою наполнило площадь приветствие Вьюна. Павел почти минуту смотрел на Третьякова, как на клоуна — холодно, неприязненно, — будто отказывая тому в здравом смысле. Наконец, опомнился. Неуклюже положил руку на плечо «арийца».
- Ты не прорвёшься туда, — выговорил коряво, словно заново привыкая к собственному голосу. — Надо уходить. Доделаешь дело в следующий раз.
- Нет! — Третьяков рванулся к Павлу так, что тот, в страхе, отпрянул. — Следующего раза не будет! Ты что, не понимаешь? Это уже не болезнь — война! А вокруг нас не несчастные люди — солдаты. С солдатами не проводят задушевных встреч. С ними не говорят «за жизнь». Солдатам отдают приказы. Чума… она не станет больше маскироваться, прятаться… Она начнёт убивать под своим именем — и это имя будут славить её солдаты на каждом углу!
Читать дальше
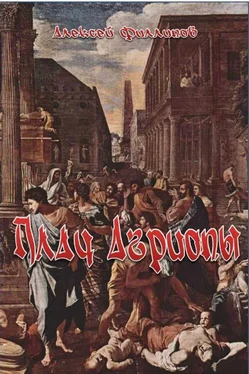



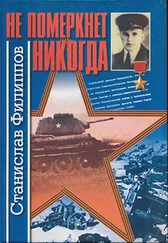

![Алексей Филиппов - Презренный кат [СИ]](/books/413463/aleksej-filippov-prezrennyj-kat-si-thumb.webp)



