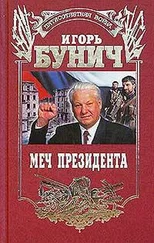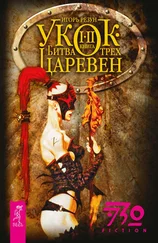Антиглобалистка и араб попрощались; выждав этот момент, Чепайский с рыком разъяренного бегемота рванул к арабу, облапил его за плечи, повис.
– Махаб, родной ты мой! Смотри, кого я тебе привез! Переводчица! Референт! Красавица! Спортсменка! Комсомолка, мать ее яти!
Скорее всего, Махаб аль-Талир мало что понял из бурного словоизвержения своего русского друга, особенно из последней его части, но, тем не менее, церемонно поклонился, а когда Майя, зардевшись, подала руку, склонил свою чалму. Белая ткань в едва заметный горошек мелькнула перед глазами Майи, и она ощутила над своей рукой горячее дыхание чьих-то губ – легкое, не касающееся, но обжигающее на расстоянии, как пустынный хамсин, разносящий дух пряностей и раскаленного песка. Это араб только приблизил свои полные губы к ее ручке, а сердечко девушки уже учащенно забилось.
– Очень рад видеть вас здесь в этот полуденный час! Могу ли просить вас отобедать с нами?
Он произнес это на чистом русском языке, настолько чистом, что, казалось, рядом заработал старый советский телевизор, показывающий не менее старый отечественный фильм. Правда, говорил он с легким, неуловимым акцентом южанина, напиравшего на гласные, а голос его звучал слегка гортанно. В прохладном полумраке холла его белый головной убор казался ослепительным айсбергом.
Майя открыла рот.
– Я учился в России, – скромно сказал араб, беря ее под руку, осторожно, как редкую вазу. – Можете звать меня просто Махаб аль-Талир. Можно ли узнать ваше имя, дорогая гостья?
– Майя, – пролепетала та.
С этого короткого момента и шумный, брызгающий слюной Чепайский, и аквариумные рыбы, слабость к которым всегда питала Майя, и все вокруг перестало для нее существовать. Этот гость с Востока затмил все. От него ПАХЛО – именно пахло – ароматами тысячелетней цивилизации, какими-то пряностями, романтикой оазисов и ночей под огромными персидскими звездами. Майя пошла за ним покорно, чувствуя, как немеют лодыжки и слегка подламываются ноги на каблуках.
Они расположились за крайним столиком в столовой Дома ученых. Место уже сервировали, холодный блеск столовых приборов, разложенных на крахмальной салфетке, хищно слепил глаза. Махаб аль-Талир повязал салфетку, отчего стал еще более похож на наследного шейха. Принесли черную икру в запотевших вазочках, нарезку красной рыбы, овощи и графинчик водки. Чепайский крякнул, потирая ладони под манжетами с массивными золотыми запонками.
– Вот за что я тя люблю, Махаб, – сказал он, сглатывая слюну, – за то, что ты нашу водочку уважаешь! Эт-то, понимаешь, дорогого стоит… с точки зрения глобальной демодуляции эвхаристического миропознания…
Но араб, похоже, обращал на Чепайского ровно столько внимания, сколько может обращать бедуин на надоедливое насекомое – пусть кружится вокруг да жужжит. Он ухаживал за девушкой: положил ей рыбу, икру – серебряной ложечкой, посмотрел в глаза и все понял. Кивком головы он подозвал официанта, и на столе появилась бутылка белого вина, элитного молдавского – судя по этикетке. Майя решила перехватить инициативу. В конце концов перспективы открывались сказочные.
Она кратко рассказала о себе. Поведала о том, что хорошо знает английский, и выдала очень длинную фразу, которую Махаб аль-Талир благосклонно выслушал, улыбнувшись. Рассказала о том, что хорошо знает компьютер. Ну и прибавила еще несколько деталей. Потом замолчала, ожидая вердикта. Но вместо этого араб поднял стопку с колышущейся линзой водки.
– Что ж… Выпьем же за тех, чей свет дает нам Аллах как раз в то время, когда мы блуждаем в потемках. За вас, леди!
Отпив вина, Майя, все еще до конца не определившаяся, как себя вести, осторожно поинтересовалась:
– Вы… мусульманин, да?
И тут последовало первое откровение.
Разделывая специальным ножичком ломтик кеты, Махаб аль-Талир улыбнулся, взмахнул своими длинными ресницами и проговорил мягко:
– Видите ли, о, драгоценная гостья, я не могу считаться мусульманином в том понимании, какое существует, как я уже успел убедиться, в Москве и в принципе во всей вашей стране. Моя вера – вера суфиев. Вера, к которой присоединились древний персидский поэт Ибн ал-Фарид и не менее знаменитый мыслитель Ибн ал-Араби. Последний, уроженец города Мурсии, умер в Дамаске и оставил учение о божественном единстве, основанное на принципах монизма: человек, согласно ему, есть микрокосм или отражения макрокосма. Достаточно углубить свое «Я», чтобы открыть, даже не зная сур Корана, Аллаха – одновременно трансцендентного и имманентного, как единственный источник всего сущего. Суфии и их пророки – это «друзья Аллаха». Мы называем это понятие – «вали». Мы в меньшей степени следуем Корану и в большей – самим себе. Философ арабского мира Аль-Кинди в девятом веке очень хорошо изложил принцип суфийцев в одном из своих трактатов. Это может звучать примерно так: Аллах велик, но он дает свое откровение только тому, кто сможет поспорить с ним и быть мудрым в этом споре.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу