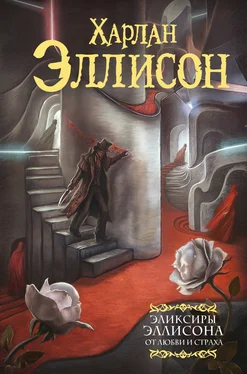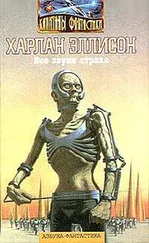Грязных мусорных баков в Манхэттене не счесть. Но они смогли посетить довольно много, пока уже ближе к утру не ввалились, наконец, почти мертвецки пьяные – теперь уже все трое – в бар «Собачья конура»: полную неописуемой пустоты дыру в глубине Бауэри.
Сорокин сидел напротив парней из Йеля. Лицо Чоата снова покрылось розовыми пятнами. На Эндовера напало игривое настроение.
– Панки, киса, – повторял Эндовер с дурацкой ухмылкой.
– Любимч…ик! – осклабился Чоат. Угрюмому напряжению, таившемуся под самой поверхностью, хватило бы легчайшего дуновения ветерка, шороха листвы, поданой шепотом команды, чтобы прорваться наружу.
– Отмазка, – пробормотал он и вдруг судорожно вздохнул. Лицо его побагровело. – Меня сейчас стошнит, – сообщил он.
– Реплика словно из скверного рассказа, напечатанного в «Нью-Йоркере», – заметил Эндовер, старательно выговаривая слова. – Если бы рассказ был в «Плейбое», ты бы сказал «сблюю», потому что это слово из реальности, в нем дохрена реальности, да? А если бы все происходило в рассказе из «Кеньон ревью», ты бы сказал «метать харч», потому что за этим стоит история, корни так сказать. А в рассказе из «Эсквайра» ты бы сказал «проплююсь», потому что эти ребятки пытаются убедить всех, что говорят точно как отличники в колледже. А если бы ты попал в «Нейшнл джиографик»…
Чоат бочком сполз со стула и принялся выбираться из-за стола.
– Ыгхх, – издал он влажный звук. – Ту…алет?
Энди поднялся помочь ему.
Придерживая Чоата одной рукой за талию, а второй под локоть, он дотащил его через набитый людьми, насквозь прокуренный бар к облезлой двери с табличкой «М». Только тут до Сорокина дошло, насколько мрачное, даже зловещее место этот бар «Собачья конура».
В дальнем углу сидела троица в черном; все трое так низко склонились над столом, что касались головами друг друга и казались теперь единой черной желеобразной массой. Из этого желе до Сорокина доносились шипящими призраками обрывки фраз: «Чувак, меня щас попрет… во, вставило…»
Старые торчки.
Прямо за музыкальным автоматом (в данный момент устало молчащим в ожидании, когда кто-нибудь кинет в него монетку, чтобы он мог отплатить за нее дребезжащим звуком) царил полумрак, в котором занимались чем-то неудобным мужчина с женщиной: женщина ерзала у мужчины на коленях.
Все столики были заняты. Группы мужчин в плотных свитерах, все еще напитанных царившим за засиженными мухами окнами ноябрем. Грузчики, кессонщики, матросы с торговых судов, водители ночных грузовиков, компания китайцев с Мотт-стрит, женщины с широкими бедрами, сгрудившиеся вокруг мужчины с колодой карт таро – ни одного чистого лица. В зале воняло свинарником. Собственно, этот запах подобно букету складывался из многих отдельных миазмов: сначала ощущался запах чеснока, потом пота, потом мочи, а уже на все на это накладывались запахи сигаретного и трубочного дыма, сквозь которые время от времени пробивался кислый запашок дешевой травки, в которую понапихали слишком много семян и соломы, чтобы заторчать по-настоящему. И темнота. Неясные тени двигались здесь и там как планктон в илистой морской воде.
Жужжание голосов – убаюкивающее; ни шутки, ни смешка, ни хотя бы хихиканья. Заменой этому служили утробные звуки, словно кто-то тужился на толчке, но на деле – щупали под столом женщину. Место для завязывания отношений.
Слово «безнравственный» сюда не подходило. В таком месте совершенно естественно валяться пьяным на полу у стены, среди штабелей ящиков кока-колы, с открытыми, но ничего не видящими глазами, с руками в грязи неизвестного происхождения, в одежде, давно потерявшей форму и цвет. Обезличенный, безнадежно спившийся объект – в полиции такое называют «разжижением мозгов». Слово «пьяный» подходило к нему не более, чем «безнравственный». То, что видел Сорокин, волоча Чоата к дверям туалета, являло собой крайнюю степень падения.
Он видел мир без прикрас, и это относилось и к нему самому. Мир, не затронутый амбициями, или историей, или социальными условностями. Он видел жизнь с ее истинной стороны, какой не видел ее уже много лет. Он видел, храни его Господь, самую что ни на есть изнанку жизни.
У барной стойки тоже было не протолкнуться, что наглядно отражалось в мутном, с потеками зеркале за стойкой. Локоть к локтю в ожидании комендантского часа, то бишь закрытия, опрокидывая стопку за стопкой, не размениваясь на разговоры, стараясь закинуть в нутро как можно больше, пока ночь не заграбастает их и не вышвырнет в полный одиночества мир.
Читать дальше