Возвращаясь в летнюю кухню, я радовался как ребенок. Я шел вдоль пролеска и что-то напевал. Во мне не было ни боли, ни зависти, ни желчи. Больше не звучали саднящие ноты Сонаты смерти, она затихла. Головокружительный запах сирени сводил с ума, и какая-то энергия, неведомая доселе, переполняла меня. Закрывая глаза, я видел эту девушку воочию, и мне безумно хотелось жить, сбежать от неподкупной реальности, чтобы наши свидания с Ионой длились вечно.
Острое, мучительное желание жить, когда ты словно кричишь об этом в тишину и надрываешь от напряжения связки.
Я понял, что лукавил, когда, мечтая встретить Иону, клялся, будто готов умереть за эту встречу. Выходит, я просто лелеял в себе ростки надежды, а теперь же – невыразимо хотел жить, творить, любить ее, если уж это задумано судьбой. Так правду ли говорят восточные мистики и последователи буддизма, что наша жизнь предопределена с самого рождения? Правду ли пророчат хироманты, читая письмена с линий, прочерченных на наших ладонях? В то лето я действительно чувствовал себя послушной марионеткой в руках судьбы.
Я готовился ко сну, когда услышал тихий, утробный плач. Я вышел из летней кухни и двинулся на этот звук, похожий на всхлипы раненой флейты. Он тянулся из хозяйского дома. Я ринулся на помощь и увидел в окошке Амаду, сотрясающегося от слез, рядом с какой-то мятой, «увянувшей» фотографией. Я долго стучал в дверь, но он не открыл. Когда я вернулся к окошку, шторы уже были наглухо задернуты.
На следующий день Иона рассказала его историю, о которой знали в округе все, и это меня обожгло. Опять все перевернулось с ног на голову, и меня охватил первобытный ужас, с которым я едва мог справиться. В его истории тоже звучала ужасающая Соната обреченности.
То была история несчастного человека, мечтавшего о смерти, каждое утро и вечер молившегося небесам, чтобы ему ниспослали милость уйти раньше. Его сердце жило лишь воспоминаниями о безвременно ушедших сыновьях, любимых мальчиках, как две капли воды похожих друг на друга, грустно смотревших в небеса, когда сорок лет назад их загрыз сорвавшийся с цепи соседский бультерьер.
Амаду жил глубоко внутри себя, глядя на мир своими заплаканными, но беспредельно ясными глазами, и такое скорбное было у него лицо, когда он оставался наедине с собой, что об его огромном одиночестве шептались даже за пределами Фарфаллы. Однако на публике он тщательнейшим образом прятал свои слезы, оставаясь предельно молчаливым, сохранившим былое мужество и гордость.
Но по вечерам, когда я проходил мимо его лачужки, увенчанной зеленой пирамидкой, можно было слышать голос, полный слез. Однажды я случайно услышал отрывок его вечерней молитвы.
– Зачем я сделал им А1? – шептал Амаду. – Я знал, когда ты их заберешь, Отец, я знал. Они не знали. И ничего я не смог изменить. В мгновение ока они выскочили во двор, точно в ту роковую минуту… Я кричал им: «Том! Уилл! Домой, сорванцы!..» Но они не послушались. Я побежал на улицу, в одной майке, утопая в снегу босыми ногами, но было поздно. Было поздно… Они лежали под кустом рябины, осыпанные горькими ягодами, растерзанные, разорванные этим псом-людоедом, вымазавшимся в их крови; они лежали и смотрели своими застывшими глазками вверх, замерев на небе. Простите меня… Зачем я пережил их, Отец? Зачем я знал об этом с самого их рождения? Зачем я сделал им А1?
Мне было бесконечно жаль Амаду, который мог утешиться только в своем одиночестве, перед иконами. Воспоминания о том смутном дне терзали его совесть, и этот бедный человек вымаливал смерть, плача, что устал жить, устал винить себя в том, что на первый взгляд казалось неминуемым, начертанным на скрижалях Судьбы. И он звал смерть, но она упорно не приходила, оставляя его в мучительном ожидании, ибо до его даты Х было еще пять невообразимо долгих лет.
«Уйти сегодня было бы для меня освобождением, праздником», – это его слова.
Иона. Такое простое, лиричное имя, словно звон предрассветного утра, словно чарующее тирольское пение. Я рисовал ее каждый вечер, и ей это безумно нравилось. В Ионе было нечто детское, красота не земная, но поэтическая, и я стремился перенести этот флюид на рисунок. Своенравная акварель. Густой запах масла, который ни с чем не перепутаешь. Нежнейшая пастель. В профиль, в три четверти, анфас. В полный рост у розовых кудрей иван-чая. У Синей скалы. Рисовать получалось легко, словно кто-то невидимый двигал моей кистью.
Я верил, что это начало новой, пусть и недолгой, жизни. Когда мы гуляли по пляжу Великого озера, усеянному обломками скал, мне вдруг точно открылась сокровенная тайна мира, и простейшие образы окружавших нас вещей – природа, причудливые ветви сосен, ароматы цветов, жгучее солнце, кружка холодной воды, от которой бежали восхитительные мурашки, – обрели вдруг новое звучание, предстали в более совершенном облике.
Читать дальше
![Денис Калдаев Семь миллионов сапфиров [litres] обложка книги](/books/416933/denis-kaldaev-sem-millionov-sapfirov-litres-cover.webp)
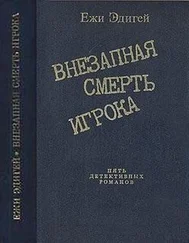



![Ольга Куно - Семь ключей от зазеркалья [litres]](/books/384216/olga-kuno-sem-klyuchej-ot-zazerkalya-litres-thumb.webp)
![Сэмюел Сайкс - Семь клинков во мраке [litres]](/books/386145/semyuel-sajks-sem-klinkov-vo-mrake-litres-thumb.webp)
![Денис Калдаев - Создатель [litres]](/books/388464/denis-kaldaev-sozdatel-litres-thumb.webp)
![Анна Велес - Семь колец Пушкина [litres с оптимизированной обложкой]](/books/413902/anna-veles-sem-kolec-pushkina-litres-s-optimiziro-thumb.webp)
![Анна Велес - Семь колец Пушкина [litres]](/books/413983/anna-veles-sem-kolec-pushkina-litres-thumb.webp)
![Росс Монтгомери - Ужин начинается в полночь. Семь жутких историй [litres]](/books/430951/ross-montgomeri-uzhin-nachinaetsya-v-polnoch-sem-zhu-thumb.webp)

