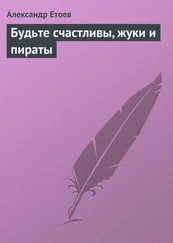– Нет, – Ванюта сказал, – не будет такого завтра. Завтра будет наша победа, моя, твоя. Светлое дерево яля пя дышит корнями.
Старшина Ведерников показал на тундру – на пятно холма, поросшего кривыми деревьями. Замолчали – услышали запах ветра, но безвкусного, не питающего ни тело, ни сердце, только рвущего на части желания и заставляющего человека страдать и морщиться.
– Мухоморский бог им товарищ? – поинтересовался Хохотуев у старшины. – Ладно, пусть он им их товарищ, но товарищ Сталин, товарищ наш, сильно больше. За родину, за Сталина! – сказал Хохотуев и вынул из задника жёлтого американского своего ботинка автоматический швейцарский пружинный бритвенно отточенный нож.
Облака, сгустившиеся над тундрой, из серых превратились в стальные, под цвет хохотуевского ножа. Похолодало. Мёртвыми сделались облака.
Ровно на триста тридцать три с третью кусочка порезал Хохотуев неправедную плоть Темняка. Меньше на три кусочка порубил Пинай Назарович малохольное тело Собакаря.
– Есть будешь? – спросил Пинай, маша́ перед Ванютой мешком с костями и мясом им порубленных мухоморов. – Брезгуешь? – спросил он, вынимая из кровью сочящегося мешка кусок предплечья собакарёвского. – А я вот проголодался. – Он стал вжёвываться прямыми зубами в плоть Собакаря-мухомора. – Подсолю-ка, соли маловато чего-то. Давай не тушуйся, ешь… Скоро ль ещё до дому?.. Я его спросил: «Ну вот ты, Темняк, сорок человек погубил, неужели никого не было жалко?» – «А тебе, – он говорит, – Пинай Назарович, когда ты мух давишь – их жалко?» – «Нет, ну каково?! И это человек про человека! Я у него спрашиваю: «А есть ли у тебя, говорю, на свете что-нибудь святое, Темняк? Веришь ли ты, – спрашиваю, – во что-нибудь или в кого-нибудь?» – «Да, – говорит, – верю. В ежа, который колется, – говорит, – верю». В ежа , оцени, Ведерников!
Пережёвываемый Собакарь думал: «Обманул меня Темняк, обманул. Обещал жизнь, получилась смерть, но смерть – это тоже жизнь, только мёртвая, только больно. Потому что жуют зубами, вот губами сосали бы, не было бы так больно».
Отвечает ему мёртвый Темняк: «Улуу-Тойону дали два зуба мы. За меня зуб однорукого утопленника-русского, за тебя, Собакаря, зуб этого дурака Ванойты, третий зуб сам к нам придёт. Жди. Ровно день остался. Мёртвому день как жизнь. День – жизнь, жизнь – день, денжизнь – жизде́нь. В мёртвой жизни всё мёртво. Всё правильно. Понимаешь? Жизнь у нас теперь вечная, потому что мёртвая. Хорошо-то как!.. Видишь?»
Отвечает Темняк мёртвый Собакарю мёртвому: «Вижу».
День выдался не футбольный, ветреный. Тучки покрыли небо.
Телячелов перенервничался весь. Ещё бы, этот алкоголик, этот предатель родины, этот… генерал-полковник всея циркумполярной Руси, перенёс ответственный матч с завтра на сегодня. Едет уже начальство, успел сообщить. И усиленный конвой едет. И архангельцы уже на подлёте. «Успеют, – надеялся замполит. – Только вот обещанного организатора мандалады отпустил говнюк Дымобыков, и ничего-то я не смог с этим сделать. Ладно, отговорюсь». Вспомнил вдруг замполит, как Дымобыков, заполняя анкету, в строке об образовании написал «незаконченное низшее». Хмыкнул громко, почесался, сел, встал…
Ведерникова всё не было. Совсем распустил подчинённый состав командир дивизии. Впрочем, каков комдив, таков и состав. Ничего, придёт старшина, устроит он ему и за туземца, и за лауреата, за всё, за всё. Никаким меряченьем не отпишется.
Телячелов метался по кабинету.
С глазом его встретилась гильотина, подмигнула глазу, попросила приблизиться. Телячелов приблизился, интересно стало, с чего бы это она. Замполит заинтересовался вдруг, как это при королях французских головы рубили отступникам. Сюда, что ли, совать её, голову-то? Сунул. На что нажимать? Нажал. Сработало. Крови вышло почему-то немного. Стакан примерно. Он ещё, как Лавуазье на казни, моргнул зачем-то, эксперимента ради, левым глазом портрету Сталина, но Сталин не ответил, смолчал. Не до Телячелова было Сталину. Сталин думал о Сталинграде.
С хвостохранилища задувало хмелем. Отстойный запах разлагающегося болота кому нравился, кому нет – женщины прикрывали рты скомканными платками, стойкие мужчины терпели. Трибун было сколочено две. Одна по эту сторону скошенного ко́сами поля, другая – по другую, пониже, для командного состава помельче.
Место главное, на главной трибуне, было пусто – Дымобыков запаздывал. Место рядом, замполита Телячелова, пустовало тоже. Жена Телячелова, Зоя Львовна, теребила возле губы платок, недовольная ядовитым запахом. Шею её грело кашне. Светло-розовое, по краям голубое.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


![Виктория Борисова - Буду с тобой самым нежным! [СИ]](/books/147200/viktoriya-borisova-budu-s-toboj-samym-nezhnym-si-thumb.webp)