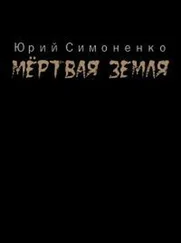…Нужная ниша, отмеченная на имевшейся у Кувалды схеме тоннеля, начерченной от руки на двойном тетрадном листке в клеточку, нашлась там, где и полагалось, через 680 метров от заваленного портала (благо, сбойка, через которую искатели попали в тоннель, как и другие сбойки, камеры, дренажные штольни и ниши, была отмечена на схеме, и вместо измерения тоннеля саженью достаточно было просто считать ниши и сбойки). Ниша — аркообразное углубление в бетонной стене тоннеля — имела одно отличие от других таких же ниш. Задняя стенка этой ниши была из металла.
— Пришли, — произнес Кувалда, встав внутри ниши и похлопав ладонью по холодной плите. Звука не было. — Толстая…
— И что дальше, командир? — Длинный пошарил светом фонарика по нише.
— Будем посмотреть… — ответил Кувалда и достал из кармана разгрузки черный прямоугольник в стальной рамке, повертел в могучей пятерне. Прямоугольник имел толщину примерно в полсантиметра и габаритами был со старинную пачку сигарет. Один угол прямоугольника был заметно скруглен.
Выйдя из ниши в тоннель, Кувалда осмотрелся. Внутри ниши не было ни проводов, ни щитков, ничего вообще. Только монолитный бетон и стальная стена. Зато по обе стороны ниши имелось по железному коробу с простыми накидными защелками типа «лягушка». Тянувшиеся по стене тоннеля многочисленные кабели в этом месте поднимались над аркой ниши, описывая дугу; при этом через короб справа проходил один из кабелей, левый же короб внешне не был связан с этим кабельным хозяйством.
Стоявший рядом Серёга Хмурый проследил взгляд командира и молча шагнул к коробу, откинул защелки, открыл крышку. Короб был пуст. Хмурый хмыкнул, закрыл короб, потом ухватил его обеими руками, пошатал, приподнял и снял со стены. За коробом в бетонную стену тоннеля была вмурована стальная пластина с черным углублением, точно соответствующим форме прямоугольника, что держал в руке Кувалда.
— Во! — сказал Хмурый. — Система «ниппель»!
Недолго думая, Кувалда подошел к пластине и вложил прямоугольник в углубление. Ключ-карта прилипла к пластине, утонув в углублении на половину толщины ( «Вот, значит, для чего железная рамочка…» , — решил Кувалда, — «чтобы примагничивалась…» ), тотчас за стеной что-то загудело, ногами Кувалда ощутил легкую дрожь, потом за железной стеной в нише глухо заскрежетало. Секунд через пять звуки прекратились. Кувалда убрал руку от пластины, черный прямоугольник остался на месте.
— Ну, что, мужики, — на рыжей бороде Кувалды просияла довольная улыбка, — кажется, сработало!
Стальная плита в нише поддалась не то чтобы легко, — одному Кувалде пришлось бы изрядно попотеть, чтобы сдвинуть ее с места, — но всемером они быстро справились. Плита оказалась гермодверью толщиной сантиметров в тридцать, по радиусу открывания которой в полу бывшего за гермодверью помещения имелся специальный рельс, на который дверь опиралась колесом.
Помещение было шлюзовой камерой примерно три на четыре метра, — оно, как и другие помещения Объекта, было обозначено на схеме на листке в клеточку, которую со тщанием начертил для Кувалды старик Михалыч, — и из него дальше вела еще одна гермодверь попроще, открывавшаяся посредством знакомого любому искателю штурвального механизма задраивания. Там же обнаружилось и устройство отпирания гермодвери, состоявшее из двух противовесов, перемещавшихся в вертикальной плоскости по прикрепленным к стене направляющим и двух цепных лебедок. Рядом с устройством на стене была простая и понятная инструкция, из которой следовало, что один противовес, связанный с системой распознавания электронного ключа, отпирал засовы и открывал гермодверь, а второй, оборудованный электромеханическим таймером, закрывал и запирал. Тот факт, что механизм только сдвинул запиравшие гермодверь толстые ригели, но не открыл ее, явно свидетельствовал о неисправности механизма, поэтому Кувалда решил не проверять работу устройства, — открыли и ладно. А лебедки, на всякий случай, вывели из строя.
— Ну, чего дальше-то? — поскреб двухдневную щетину Длинный, когда отперли вторую гермодверь и вошли в просторный зал с множеством дверей и начинавшихся из зала коридоров.
24 августа 2030 года, бывшая Украина, Винница, пересечение улиц Ивана Павленко и Романа Шухевича, вечер
Город был пуст. Масштабных разрушений здесь не было, как и в других городах этой бывшей страны. Следы пожаров — да, сгоревшие машины, пни от городских деревьев, на которых местами выросли новые деревья, разбитые окна и витрины, оборванные провода, перевернутые автобусы — все это было. Следы отгремевшей гражданской войны, следы страшного голода и холода, скелеты и мумии в домах. Но не было воронок, не было сметенных взрывными волнами городских кварталов, не было жутких теней на стенах домов. Украину не бомбили, — кому нужна Украина! — она сама загнулась, сама устранилась с политической карты мира. Как и прочие мелкие страны, ничего не значившие без метрополий, которые эти мелкие страны обслуживали, поставляя в метрополии батраков, проституток и горничных. Соседняя Беларусь получила свою порцию радиоактивного внимания из заокеанской «Цитадели Свободы и Демократии», маленькая Молдова получила. «Великая» Польша получила привет из «тоталитарного русского Мордора». Латвия, Литва, Эстония, Чехия… А Украину обделили вниманием. Потому что Украина никому на хрен не была нужна. И, тем не менее, она развалилась. Андрей Беленко встречал людей с Запада, слышал от них, что творилось там в девятнадцатом. Радиация, болезни, банды… Люди ели людей. А на Украине только выпадали радиоактивные осадки — тот самый fallout — и была долгая зима, как везде. И люди ели людей, как и везде. Но это зимой, а развалилась она, Украина, еще до. Винница была типичным украинским городом — городом-призраком.
Читать дальше
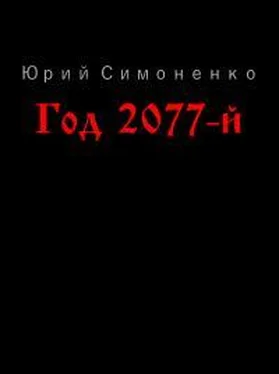


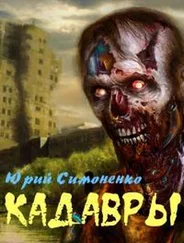

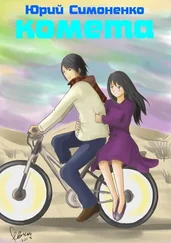
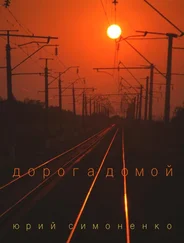

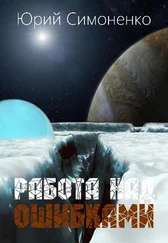
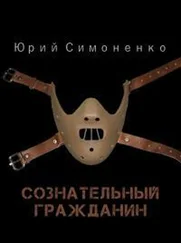
![Юрий Симоненко - Земля после [СИ]](/books/411318/yurij-simonenko-zemlya-posle-si-thumb.webp)