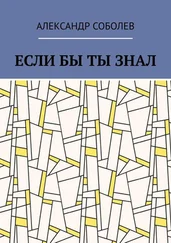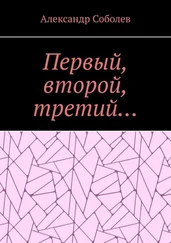— У вас за деревней была старая усадьба, разрушенная. Далеко это, легко ее найти? Мне нужно сфотографировать ее, и особенно башню, которая там была.
— Башню? — протянул мужичок. — Да нет у нас там никакой башни. — Ты чего-нибудь слышала про башню? — обратился он к подруге.
— Я — никогда. Может быть, кто-то и слышал, но мне не случалось.
Никодим поймал мгновенный острый взгляд бывшей кликуши. В принципе он понимал, что лучше не настаивать: это был часто встречающийся ему психологический выверт. Деревенские жители априори испытывали по отношению к пришлецу род комплекса неполноценности, из-за чего старались во всей возможной полноте подать свои локальные превосходства, как будто умение плести лапти на продажу до некоторой степени уравнивало их с визитером, профессором Сорбонны. Поэтому на любой прямой вопрос зачастую получался уклончивый, а то и вовсе неверный ответ — не со зла и не из-за врожденной увертливости, а лишь для создания того фона, на котором ярче просияет впредь высказанная истина, даже если она касалась бы всего-навсего истинного положения на карте какой-нибудь Конской Заводи или Козьей Спинки. Таким образом, с прикладной точки зрения настаивать ни в коем случае не следовало, но вот серьезность своих намерений подчеркнуть стоило, чтобы набить цену будущей капитуляции: не в денежном, конечно, смысле (Никодим успел убедиться, что крестьяне, несмотря на вынужденную бережливость, в массе своей достаточно равнодушны к деньгами), а в том же психологическом.
— Мне рассказывали совершенно точно, что в двух-трех километрах к западу от Шестопалихи стояла усадьба — с барским домом, службами и еще разными строениями. Мне очень хотелось бы ее отыскать.
— А кто рассказывал-то?
Тут было важно не ошибиться. В некоторых случаях апелляция к бывшему владельцу была несомненным благом: там, где в народе жила благодарная или как минимум нейтральная память о бежавшем барине, упоминание о том, что сам он (или его дети) ныне здравствует где-нибудь в Свиноусьце, открывало все пути и к чувствительным сердцам пейзан, и к бывшей недвижимости. В иных случаях, напротив, если бывший владелец успел оставить по себе недобрую славу (а абстрактное человеколюбие зачастую сочеталось в будущих эмигрантах с самыми свирепыми замашками крепостничества), имя его способно было испортить все дело. В полученном Никодимом пакете ничего не говорилось про нрав местного латифундиста (а только про башню и огород), но он решил рискнуть.
— Ну, допустим, сам владелец и рассказывал.
Реплика его возымела неожиданное действие. Возница тпрукнул лошади и, повернувшись всем телом к Никодиму, спросил у него охрипшим голосом:
— А он живой был?
Никодим смешался.
— Я получил письмо, как мне показалось, или от владельца, или от его доверенного лица.
— Аааа, письмо, — протянул тот, вновь поворачиваясь и подергивая вожжами. — Ну разве что письмо… Был там действительно старый дом, — проговорил он нехотя, — но мы в ту сторону не ходим, болото там… да и делать там нечего, ни грибов, ни ягод.
Никодим понял, что лучше не настаивать: собственно, сам факт наличия усадьбы они признали, а пока для его целей этого было достаточно — провожатым можно было озаботиться и позже. Но налаживавшийся контакт следовало развить.
— А можно где-нибудь будет переночевать в деревне? Я бы сегодня попробовал сфотографировать то, что нужно, но вернуться засветло уже, похоже, не успею.
— Да найдется, наверное, где. Может, хоть в докторовом доме.
— А сам врач?..
— Да нет у нас доктора-то пока. Как тот помер, так и нету.
— А к кому мне там обратиться, чтобы пустили?
— Да ты не суетись, — отвечал мужик, как показалось Никодиму, довольно грубо. — Сейчас, Бог даст, доедем — найдем тебе и то и се, будешь как барин у нас.
Говорить опять сделалось не о чем, да и сторонний разговор в телеге увял сам по себе. Никодим вновь почувствовал какую-то отстраненность от происходящего, как будто не сам он едет в телеге среди чужих людей, а словно смотрит фильму про какого-то путешественника, причем на заднем фоне вызревала еще одна мысль (из разряда нередко посещавших его) — что сейчас никто, ни одна живая душа из знакомых ему не знает, где он находится. Человеку вообще свойственно воображать то, что произойдет после его смерти: мысли такого рода — верный спутник всяких обид, особенно времен отрочества. Собственно, многих удерживает от самоубийства только невозможность присутствовать на своих похоронах, мысленно наслаждаясь речами и раскаянием. Так и Никодим, несколько внутренне стесняясь, любил машинально воображать, как его родные и близкие, не дождавшись весточки, организуют разыскную экспедицию, шажочками прослеживая его извилистый путь: вокзальные кассы, проводница, себежские старухи, Савватий… Но в этот момент, до начала этих масштабных исследований, он был совершенно невидим: кажется, он не успел никому толком рассказать о своем маршруте, так что даже исходная его точка была до времени скрыта — пока, конечно, Густав не обеспокоился бы отсутствием вестей. Впрочем, поскольку он был в Москве, то, может быть, и тревогу забил бы раньше? И что? Позвонил бы матери, потом, наверное, князю, который, впрочем, умеет припадать к таким таинственным рычагам, что, может быть, это и ускорило бы дело.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу