Вионор Меретуков - Тринадцатая пуля
Здесь есть возможность читать онлайн «Вионор Меретуков - Тринадцатая пуля» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: sf_mystic, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Тринадцатая пуля
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Тринадцатая пуля: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Тринадцатая пуля»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Тринадцатая пуля — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Тринадцатая пуля», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
… В ту, первую, ночь в К***, когда мы с Алексом исповедовались друг перед другом, я говорил ему:
"Нет ничего страшнее партийных бюрократов. Они не давали мне жить! Я их ненавижу! Они и их более либеральные последователи лишили меня свободы, лишили права на выбор. Моя жизнь была бессмысленной, но долгие годы я лишь догадывался об этом. Я жил, как многие. Увлекался девушками, глушил водку, читал "Самиздат", болел за "ЦСКА" и иногда навещал театры и выставки. Я был молод и глуп, но казался себе страшно умным. И хотя я задавал себе немало трудных и грустных вопросов, я жил так, как живут миллионы. Оказалось, что повседневная, будничная жизнь, когда с таким трудом решаются проблемы ужина и чистых носков, куда главнее той огромной, глобальной, масштабной жизни, которой живут страны и народы, императоры и спортсмены, президенты и модельеры, кинозвезды и авторы бестселлеров и до которой тебе, в сущности, нет дела. И может быть, я был не так уж и не прав".
Я говорил ему:
"То, над чем столетиями напрасно бились династии алхимиков и генерации звездочетов, стало возможным благодаря гению Леонида Ильича Брежнева, — время, одна из форм существования материи, независимая от воли человека, тем не менее, по воле человека-коммуниста, колдовским образом намертво остановилось на целые двадцать лет. И хотя время прочно стояло на месте, люди старели. Старел и я. А вместе со мной старело мое мастерство. Я утрачивал свой талант. А он у меня был! Теперь я это знаю точно, с годами я приобрел способность холодно и непредвзято смотреть на то, что делаю".
Я говорил ему:
"Я хотел писать жизнь так, как я ее видел и понимал. Но люди, от которых зависело всё, меня останавливали, твердя: "Куда тебя заносит, товарищ? Только мы, только мы одни! знаем, что и как тебе следует писать. Мы поможем тебе, товарищ, стать настоящим советским художником. Только для этого тебе необходимо использовать в своей работе, — говорили они, покровительственно кладя руку на мое плечо, — метод социалистического реализма, и еще тебе нужно следовать нашим дружеским советам и руководящим установкам. У тебя будет все, — с восторгом обещали они, — и машина, и дача под Москвой, и дача на Черном море, и творческие командировки за рубеж, и почетное место в разнообразных президиумах, и, — они в восторге замирали, — достойное место на привилегированном кладбище. Какая блестящая будущность! — орали они с энтузиазмом. Но не высовывайся! — предостерегающе качали они головами, — будь как все. И еще, тебе нужно избавиться от заблуждений, смысл которых в том, что на Западе художник, якобы, свободен. Басни, чушь, буржуазная пропаганда! — выли они в исступлении, стараясь перекричать друг друга, — по-настоящему художник свободен только у нас, в стране победившего социализма, где искусство партийно и принадлежит народу. А коли так, то отдельный художник тоже принадлежит партии и народу, и, следовательно, его долг, — отдуваясь, счастливо заканчивали они, — писать в соответствии с последними постановлениями Центрального комитета КПСС и ее ленинского политбюро".
Я говорил ему:
"Будь проклято то время! Но, проклиная все на свете, я писал, вернее, малевал, в духе соцреализма картину за картиной. Я рисовал краснощеких, здоровенных доярок с такими мощными жопами и такими могучими ножищами, что сам старик Рубенс, восстань он из могилы, завопил бы от зависти. Писал я и сталеваров с квадратными голливудскими подбородками и безжизненными глазами тевтонов. В общем, портреты передовиков. Все… все писал! Было стыдно. Противно и мерзко. Иногда я протестовал, но делал это слабо и неубедительно. Я не был диссидентом, и по мне было лучше вовсе прекратить писать, нежели демонстративно приковывать себя цепями к столбам на Красной площади и гневно клеймить свою страну по вражьему радио".
"Какие правильные слова! Ты был настоящим советским человеком!" — с фальшивой восторженностью вскричал Алекс.
"С тех пор я изменился".
"А где те полотна с ликами лучших людей страны?"
"В сортире".
"Мать твою!.."
"Тогда мне казалось, что в диссидентстве есть уязвимые места. Можно со многим в своей стране не соглашаться, — думал я, — но поганить свою страну, проборматывая хулу в микрофончик из Мюнхена или Праги… это, знаешь ли, не по мне. Слушая их, я замечал, что очень часто диссиденты, понося все "советское", заодно поносят и все "русское". И, не считая их своими соотечественниками, я не признавал за ними права ругать мою страну, какой бы скверной она ни была. Ее ругать мог я. Это было мое неотъемлемое право, увы, не записанное в Конституции, — ругать мою немытую Россию; я не любил, как и знаменитый классик девятнадцатого столетия, когда это принимается делать чужестранец или тот, кого этот чужестранец содержит. Не его это собачье дело, а мое, думал я тогда. Мне и сейчас чужды диссиденты. Признавая за ними известную смелость, я вижу в их поступках немало показухи, истеричности и жертвенной позы".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Тринадцатая пуля»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Тринадцатая пуля» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Тринадцатая пуля» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.


![Адам Сен-Моор - Четвертая пуля [Похищение. Четвертая пуля. Пусть проигравший плачет]](/books/84002/adam-sen-thumb.webp)

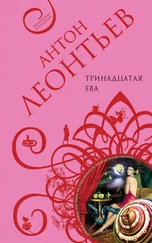
![Картер Браун - Том 13. Пуля дум-дум [Тело. Жертва. Пуля дум-дум. Бархатная лисица]](/books/102382/karter-braun-tom-13-pulya-dum-thumb.webp)
![Р. Гордон - Пуля для звезды. [Пуля для звезды. Киноманьяк. Я должен был ее убить. Хотите стать вдовой?]](/books/102748/r-gordon-pulya-dlya-zvezdy-pulya-dlya-zvezdy-kinom-thumb.webp)

