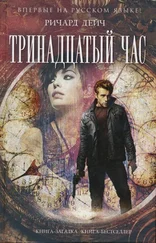1 ...6 7 8 10 11 12 ...25 Было очень тихо.
— Мальчик, здесь нельзя бегать, — строго сказала красивая женщина с высокой прической.
— Я не мальчик, — ответил я замогильным голосом, — Я — имитация мальчика.
Женщина открыла рот, чтобы ответить, но почему-то промолчала.
— Почти как настоящий, правда? — подмигнул дедушка, и она — каменея лицом — отвернулась так непримиримо, решительно, что высокая прическа рассыпалась и волосы упали на плечи.
— Ещё одна имитация, — сказал дедушка, как только мы отошли на приличное расстояние. Я не стал спрашивать, что он имеет в виду, поскольку в этот самый момент на горизонте появился прилавок с игрушечными пистолетами.
О том, что бегать нельзя, я позабыл напрочь. Оказавшись у прилавка, я обернулся, чтобы позвать дедушку, и поймал на себе его взгляд — внимательный, понимающий, сочувствующий и немного встревоженный, будто покупка игрушечного пистолета, стреляющего пистонами, могла что-то изменить в моей жизни — решительно и бесповоротно.
Когда-то резиновый мячик был ярко-красным, с тремя жёлтыми и двумя синими полосками: первая — светло-жёлтая — была самой тонкой (я понимал, что это не полоска даже, а разделительная линия, самостоятельного значения не имеющая), за нею следовала синяя, и, наконец, по экватору мяч опоясывала жирная — ярко-жёлтая — полоса. Вращаясь в воздухе, мячик создавал множество спиралей, возникающих словно бы ниоткуда и уходящих в никуда. По-малолетству я любил подбрасывать его в воздух и ловить, часами напролёт наблюдая за превращением цветных линий и возникающими в результате свободного вращения эффектами и иллюзиями.
Тридцать лет спустя цвета поблекли, краска кое-где облупилась, но гипнотические спирали и глухой ухающий звук от удара о пол или о стену — никуда не делись. Конечно, за эти годы мяч изрядно сдулся, его можно легко продавить ладонью от стенки до стенки. Но вот что волнует меня: если проткнуть старую резину булавкой и вдохнуть через образовавшуюся дырочку, будет ли этот воздух воздухом моего детства?
Мамины руки на клавишах рояля.
Почему-то из всех её пьесок, этюдов, капризов, мазурок и полонезов, в пямяти сохранилось только это — «Pozegnanie Ojczyzny».
Она играла, конечно, очень плохо.
Никогда, ни разу не слышал я этого полонеза, сыгранного от начала до конца — без запинки.
Рояль был ужасно расстроен.
Настройщик сказал: бросьте вы это гиблое дело .
Папа не любил полонез Огинского и называл его ваша дешёвая сентиментальщина .
Мне было 12.
Он имел в виду меня с мамой, когда говорил ваша дешёвая сентиментальщина .
Наверное, он был прав. Папа был психиатр.
Он знал толк в этих вещах.
Однажды он принёс домой магнитофонные записи бесед с пациентами.
(Уголовно наказуемое деяние).
Один из пациентов был уверен в том, что Луна домогается его сексуально.
Я слушал эти записи тайком от родителей — днём, когда они были на работе.
По вечерам мама играла мне.
Она смотрела в ноты пристально и немного тревожно, будто чувствовала, что вот-вот запнётся.
Мне хотелось её обнять.
Я сидел рядом, стараясь не двигаться.
Дышать как можно реже.
Не дышать.
Мама была очень хрупким существом: скрипнувший стул или звук шаркающей подошвы мог поцарапать её.
Она называла этот полонез не иначе как «Les Adieux à la Patrie», будто её плохой французский был способен что-то прибавить этой музыке.
Иногда эти вечерние концерты продолжались заполночь.
После мне часто снилась Луна.
Лёжа в постели с открытыми глазами, я часами вглядывался в темноту, исследуя законы сплетения образов. Вначале я видел лишь точки, они исчезали и появлялись, меняли яркость, парили, их движение казалось беспорядочным и бессмысленным, но вынуждало таращиться, напрягать зрение, чтобы обнаружить источник, скрытый порядок, который, насколько я знал из опыта предыдущих ночей, присутствовал в этом мельтешении, до времени избегая распознавания, предпочитая притвориться сырым хаосом. Вскоре выяснялось, что темнота имеет объем и массу, теперь это было нечто отличное от матово-чёрной плоской доски и напоминало снегопад в негативе — хлопья, равномерно движущиеся в одном направлении, в пустоте, косые линии, пересекающие поле зрения. После появлялись цветные узоры, но не сразу, не вдруг, а будто кто-то с течением времени равномерно вводил ощущение цвета в пространство, бывшее прежде пустым и безвидным. Эти узоры научали меня особому чувству ритма, они казались бесконечными, всюду — живая геометрия, дышащая, пульсирующая, вечно изменчивая, как в стёклышке калейдоскопа. Каждый элемент имел связь с привычным миром вещей: какую ниточку ни потяни, разматывается клубок образов и понятий, окружающих тот или иной предмет подобно облаку или сфере. В какой-то миг явь окончательно сдавала позиции, и я уходил дальше, пользуясь одной из найденных нитей в качестве путеводной.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу