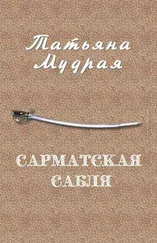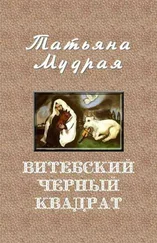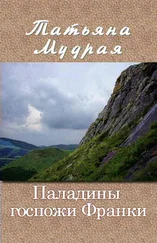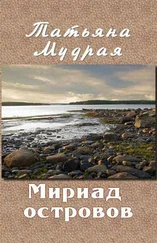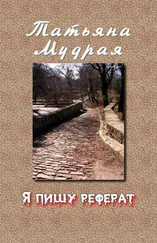«Вечная смерть», — произнес чужой голос, стеклянный и бесстрастный. «Нет!» — ударило в ней, по-прежнему распластанной и недвижной, ее сердце, девятью руками своими дотянулось до пламенных женщин. Они снова ожили, выросли до гигантских размеров, расширились во тьму. Всё на миг оделось их сиянием.
Потом они притухли, умалились, белыми звездами пульсировали на краю каменных пиал. «Мрак и холод, мрак и холод, и оцепенение, — наговаривал стеклистый голосок. — Жизнь — колеблемое ветром пламя, крошечный оазис гибнущего тепла на краю вечной тьмы… Птица влетает в комнату с очагом и мгновенно пронизывает ее насквозь, из окна в окно — вот что такое бытие». «Но ты не птица, ты из огня, ты сама огонь, средоточие мира», — ответило нечто внутри нее. Ибо там родились жар и свет и одели все пространство перед ее глазами, заполняя ее счастьем, болью, избавлением. Та-Эль чуть приподнялась, упираясь локтем — и вдруг морок исчез. В трезвой, остывшей темноте хижины ее начало обильно рвать кровью и какими-то склизкими обрывками.
— Вот и отлично, вот и умница, — Денгиль придерживал ее, наклонившуюся над тазом. — Я же сказал — не бойся, а ты перепугалась под самый конец. Ну, зато уже всё. Теперь всё.
Он дал ей прополоскать рот каким-то отваром, только не глотай, пить тебе еще нельзя — предупредил; уложил на нары, укутав в сухое, нагретое над очагом.
— Что за фокус вы оба надо мной проделали?
— Это не фокус, а было на самом деле, только нечеловеческое тебе дали видеть человеческими глазами. Ад и рай, хаос и порядок снисходят к воинам Пути в образах…
— Денгиль, я совсем дурная от вашей наркоты. И всё внутри затупилось. Ты проще объясни.
— Ну, ты ведь догадывалась, что у тебя уже не туберкулез был, а рак легкого. Ваши врачи в таких случаях точно лгут. Кстати, лекарь говорил, что это Аллах тебе подсказал в ледяной воде да в снегу купаться все эти годы. Поэтому он легко вызвал у тебя — как это? — реакцию отторжения, что ли. Ее японцы придумали. Ты неделю сражалась со злом, сначала одна, потом рядом с нами, под конец, когда уже всё страшное кончилось — рядом со мною одним. И победила. А теперь давай спи.
Проснулась она от острого чувства голода и счастья. Денгиль, который безотлучно ее сторожил, вывернул ее из оболочек, обтер от пота влажной тряпкой, потом сухой. Когда он, накинув на нее рубашку, под руку подвел к ночному горшку и, деликатно отворотясь, оставил их наедине, Та-Эль со счастливым стыдом догадалась, что он подставлял под нее посуду все время, пока она была в беспамятстве.
Потом он отвел Танеиду обратно, укрыл снова и поставил на колени столик с едой.
— Ты тоже поешь, Денгиль, а то мне одной неловко.
— Брось, мне нельзя. (А почему нельзя, не объяснил. То ли за одним столом с женщиной, то ли из одного блюда с врагом.) — Ты ешь больше и скорее поправляйся — Аллах даст, через неделю домой повезу.
И как раз на этих словах где-то под небом лопнула струна гигантской арфы. Еле слышный пока, грозный шелест донесся потом оттуда, набирая силу и тяжесть, обращаясь в многотонный рев, запечатывающий весь мир. Настала бескрайняя тишь и мрак.
— Лавина сошла, — флегматично заметил Денгиль. — Счастье еще — краем задела. И лошади, пожалуй, целы, ибо не стреножены были и паслись в стороне. Люди их заметят, переймут и придут сюда. Жаль, я своих воинов далеко услал.
Порылся, зажег наощупь толстую свечу из запаса.
— Этой надолго хватит.
Бусина тринадцатая. Адуляр
Музей серебра в городе Эдине разместился в уютном готическом соборе. Сочетание последних трех слов может выглядеть парадоксом, если ты не проникся здешним мировоззрением. Ибо приезжие католические иерархи, утверждая проект, учли извечную склонность местных жителей низводить Божество на землю и сопрягать Храм с Домом. Здание костела как бы присело, округлилось в боках; массивную цокольную часть оседлали острые кружевные башенки фиал, на витражах зацвели яблоневые и вишневые сады, оплетенные гирляндами хмеля, а садовник и виноградарь и по сю пору бродит по ним в рубахе с вышивкой и белых портах, заправленных в ногавки.
Патеров отсюда, впрочем, уже давно попросили, но любители гробовой мистики утверждают, что в главном нефе по сю пору служат «немую» полуночную мессу — ибо даже народные власти не в силах воспретить духам. А боковые приделы еще до мятежей были заняты под экспозицию, являющую собой истинную сокровищницу радостей небесных и земных.
Церковная утварь и книги в инкрустированных золотом, серебром и самоцветами переплетах, некогда бывшие идейным центром, скромно утеснились в один из дальних шкафов — то ли потому, что неоднократная смена властей пагубно сказалась на целостности коллекций, то ли из опасения, что будут реквизированы и эти остатки. Прочие стеллажи и витрины были укомплектованы по национальному признаку, воплощенному весьма своеобразно. Так, в шкафу с надписью «Немецкие ювелиры XYIII века» громоздилось отменное столовое серебро: широченные блюда, уполовники, двузубые вилки на целого печеного быка, пивные кружки на сажень двойного темного. Французы были представлены пасхальными яйцами местного отделения фирмы Фаберже: поделочные камни в серебряном и позолоченном ажуре. Самое крупное, из багряно-розового орлеца чистейшего тона, было открыто. Внутри сидел нахальный цыпляк в гагатовом черном цилиндре, явно подшофе, с неподражаемым мастерством бывый изваян из шелковисто-золотого селенита. Средневековое эркское ювелирное дело: пудовые серебряные пояса и наплечные ожерелья, какие в северных деревнях надевали по праздникам, чеканная и покрытая выпуклым литьем посуда для общинных пиршеств. Современное: чайные ложечки с чернью и эмалью и почему-то набор хирургического инструмента в подарочном исполнении.
Читать дальше