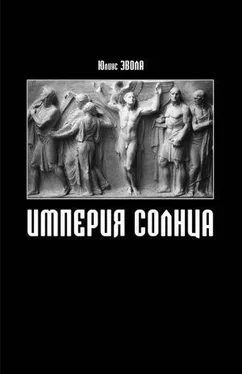Впрочем, книга начинается формулировкой, которая заставляет думать, что автор нащупал правильный путь; что ему удалось найти тот центральный пункт, который позволил бы упорядочить основные черты фигуры, действий и функции Цезаря не просто в историческом, но как в историческом, так и в надысторическом отношении. Коста пишет о речи, которую юный Цезарь держал на похоронах жены Гая Мария в качестве потомка древнейшего, знаменитого и полулегендарного рода Юлиев. Тогда Цезарь произнёс следующие пророческие слова:
«В моём роду есть и величие царей, превосходящее людскую силу, и святость богов, которые держат даже могущество царей в своих руках».
Здесь Коста демонстрирует, как выступает принцип, одновременно новый и древний, повторно звучащий как тревожный звонок в беспокойной, неверной среде разобщённого и либерализированного Рима последнего века до н. э., почти как вступление к действиям будущего владыки. Но уже в самой ссылке на эту формулу преодолевается аспект простого императора(imperator), что в языке того времени обозначало военного вождя, и устанавливается очевидная и полная значения связь с традиционной и первоначальной идеей, уже воплощённой в некоторых аспектах древнего Рима царей, но, кроме того, и универсальной — ибо она обнаруживается, в той или иной форме, в типичном цикле, продолжающем в себе величайшие иерархически–духовные цивилизации доантичного мира. Эта идея —это идея sacrum imperium , Regnum , оправданной как не только мирское учреждение, но и поддержанное трансцендентной силой или влиянием свыше; проявление этой силы. Но Коста опасается касаться этой справедливой темы в интерпретации высшего типа, откуда мы видим его намерение преуменьшить её важность — прежде всего, соединив эту идею Цезаря с предполагаемыми «эллино–азиатскими реминисценциями», и далее, возжигая изобильные зёрна ладана позитивистским предрассудкам о «сказках», «анекдотах» и «развлекательных приключенческих историях», бывших символическими древними традициями, говорившими о надысторическом происхождении Рима.
Таким образом, Коста начал делать противоположное тому, что, с нашей точки зрения, нужно было бы сделать: то есть рассмотреть Цезаря в судьбоносной, сверхличностной функции исполнителя идеи Regnum , в первый раз инстинктивно и почти бессознательно обнаруживаемой в красноречии молодого патриция; далее, действующей как объективная сила судьбы в «человечности» и военных действиях Цезаря, и, наконец, исполняющейся сознания самой себя и сознания «пожизненного диктатора» в новой римской конституции. Всё же крайне знаменательно, что, несмотря на свои намерения, Коста более или менее пришёл к этому. Он описывает нам Цезаря как позитивистского антиклерикала avant lettre , который, однако, в утверждении своей мощной личности верит во что–то большее, чем в простую человеческую личность: не во внешнюю божественность или сирийско–семитских «спасителей», а скорее в мистическую, таинственную силу судьбы и победы — felicitas Caesaris , fortuna Caesaris , постепенно становившуюся очевидной в качестве скрытой души или источника всего того, что при её помощи создавалось в видимом мире. Такая сила, в её олицетворении Venus Victrix и Venus Genitrix , у Цезаря состояла в самой тесной связи с первоначальной образующей силой его же рода: это значит, что она появилась в связи с тем же принципом, говоря о котором, молодой Цезарь провозгласил вышеописанную доктрину Regnum , и почти как конкретная действенность такого начала в Риме и в мире. Более того, если Коста демонстрирует единство намерения и воли в разнообразии — часто противоречивом, если даже не маккиавеллистском и беспринципном, несмотря ни на что, постоянно подчинённом формуле «собственное достоинство и достоинство римского народа» — способов или непосредственных целей, избранных Цезарем в различные фазы своего восхождения, то здесь также нужно представлять ту же причину, то есть параллельность двух серий или областей — «человеческой» области и области высшего принципа, который действует, так сказать, посредством «личностного» элемента в предварительной фазе, но в итоге преобразуясь и концентрируясь.
Цезарь — «неверующий не только в смысле формалистической практики римлян, но даже в широком религиозном смысле, который могли бы признать наши современники». Ещё менее он верил в религиозные или философские гипотезы о бессмертии души, почти что ощущая космический и безличный элемент(«единственная актриса прежде всего в военных предприятиях»),вдохнувший новую жизнь в «древнюю примитивную идею римской Фортуны»; и это была «единственная концепция, которая, однажды сформировавшись в нём, нашла в его лице упорного приверженца — до такой степени, что в последний период его жизни она настолько передалась ему, что может вызывать сомнение, что она может считаться, как полагают многие, «божественной». «В Цезаре, однако, всё это объединяется в личном элементе, который обычно находится во всех гениальных людях. Они чувствуют бурление daemonium ; к нему обращаются и делают его причиной этого вида экзальтации, из которой они при необходимости извлекают энергию и веру для своего развития. Поэтому он мог, с успехом своей фортуны в войне, продолжать созревать и исполняться этой концепции ( fortuna Caesaris )… как веры и толкования, которое мало–помалу кажется отвлечённой от его личности и от событий, связанных с ней». «В нём современники видели что–то необъяснимое, в чём, как они считали, имелась аура божественного». Говорить всё это — значит констатировать, хотя и с уклончивостью и колебаниями, а также с обычными ограничениями и психологическими и эмпирическими псевдообъяснениями историков и современных «исследователей», как раз вышеуказанную судьбоносность (fatidicità), понимаемую нами не как общее ощущение, но в связи с принципом Regnum , в придании формы новой универсальной цивилизации при помощи римской силы. В этом отношении Цезарь не является фигурой первого плана, подобной Цицерону; можно сказать, что это существо высшего порядка, обладающий славой расширения границ духовной империи — но не как любой триумфатор, расширитель материальной империи. В то же время в стиле Цезаря нет ничего мистического и неясного, а его существенность и ясность ума больше, чем у «спиритуалиста» или писателя, учёного или человека действия.
Читать дальше