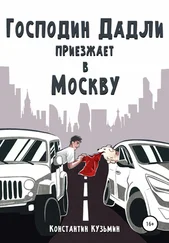Оберст сломался. Плечи ссутулились, безукоризненная прежде осанка впервые за долгие годы оказалась нарушена. Словно из фон Мердера вынули то, что поддерживало его изнутри, какую-то ключевую деталь его тела, самую главную кость, важнейшую точку его внутренней обороны. Его душа, должно быть, сама стала похожа на разгромленный штаб с измочаленными, валяющимися на полу картами, навсегда замолкшими телеграфными ключами и свисающими телефонными проводами. Фон Мердер, каким знал его Дирк, исчез. Фронтовой офицер, высокомерный, проницательный, уверенный в себе, сменился дрожащим стариком в перепачканном, висящем мешком, мундире.
– Давайте, оберст! – подбодрил его тоттмейстер Бергер, подступая еще ближе. – Откуда у вас этот страх? Отрекитесь от Госпожи и ее презренных слуг! Изгоните мертвецов прочь в их сырые могилы! Скажите им – убирайтесь, а мы отправим следом за вами на тот свет еще тысячу, десять тысяч, миллион человек! Мы задушим их газами, отправим на минные поля, раздавим танками. Только бы не принимать вашу подачку! Только бы не связываться с тоттмейстерами! Мы, живые люди, слишком чисты для этого! И мы загоним в кровавую яму всех, до кого сможем дотянуться, изуверски убьем свои семьи и искалечим свою страну, лишь бы оставить это право на чистоту за собой. До гробовой доски! Говорите, чтобы вас!
Оберст фон Мердер молча повернулся и двинулся к выходу. Он шел, как совершенная развалина, медленно, прихрамывая, голова дергалась в такт судорожным шагам. Лицо – посмертный слепок из треснувшего грязного гипса. Дирк думал, что тот так и выйдет молча, но тот обернулся на пороге.
– Вы совершенно правы, тоттмейстер, – сказал человек в форме оберста и с лицом мертвеца. – Я не буду с вами спорить. И отдавать вас под суд тоже не буду. Вы совершенно правы. И потому, я полагаю, уже достаточно наказаны…
Дверь заскрипела, пропуская его. Тоттмейстер Бергер некоторое время рассеянно смотрел на перекошенную створку, точно собирался что-то произнести, но забыл.
– Умный старик, – сказал он наконец, без сил опускаясь в кресло, сам едва живой. – Все понял верно. Другой бы упрямился, лгал, угрожал… Наверное, он действительно любит свою Германию. Тем хуже для него. Любовь редко уживается с… подвигом. Чувства разной природы.
– Вы намеренно сделали это, мейстер, – сказал Дирк.
Он ощущал опустошенность мейстера и опустошенность внешнего мира. И пустоту в собственной груди. Гнев, страх, неуверенность – все эти чувства покинули его много, может, тысячи лет назад. Он не скучал по ним. Но сейчас пустота была особенной. Внутри его, под пробитым во многих местах грязным панцирем, переломанными ребрами и заплесневелыми остатками сердечной мышцы, сейчас царила пустота сродни той, что окружала штабной блиндаж.
Засыпанные траншеи старых убеждений. Покосившиеся остовы веры с размолотыми снарядами капонирами. Клочья старых страхов, свисающих с ограждений. Труха воспоминаний под ногами.
Дирк заглянул в эту внутреннюю пустоту. От нее разило порохом, чья горечь на языке напоминала привкус уверенности. Болезненной, страшной и отвратительной уверенности в чужой правоте.
– Что? – Тоттмейстер Бергер с удивлением взглянул на Дирка.
– Вы сами позволили ему узнать правду, мейстер.
– Управлять живыми не в моей власти.
– Но я-то мертв. Вы ведь наперед знаете мои мысли, мейстер. Вы могли запечатать мне рот еще прежде, чем я открыл его. Вы могли заставить меня откусить себе язык.
– Я и сейчас могу это сделать, унтер.
В голосе тоттмейстера Бергера не было угрозы. Вещам не угрожают. Какой смысл грозить тому, кто принадлежит тебе душой и потрохами?
– Вы намеренно позволили мне говорить. Рассказать фон Мердеру про обман, про Хааса.
– Обвиняете меня в том, что я недостаточно жесток? – Тоттмейстерская бровь приподнялась. – Интересно. Таких обвинений мне слышать еще не приходилось.
– О, вы сделали это не из милосердия.
– Тогда отчего же?
– Личные счеты. Что-то вроде мести, полагаю.
– С этим стариком? – Тоттмейстер Бергер устало, но с удовольствием рассмеялся. – Унтер, я знаком с десятками таких фон мердеров! И каждый из них скорее подаст руку бешеной собаке, чем мне. Меня ненавидит, презирает и боится столько людей, что, вздумай я сводить счеты с каждым из них, на все прочее не хватило бы и жизни.
– Не с ним. С собой. Вы мстили себе, мейстер.
– Вы спятили, Дирк. Странно, что я не заметил этого.
– Я могу сойти с ума только после вас. Впрочем, это, наверное, уже произошло… Вы специально позволили фон Мердеру узнать детали плана, я лишь помог вам в этом. Вы хотели услышать из уст оберста те обвинения, с которыми давным-давно смирились. Вы хотели наказания, мейстер. Чтобы кто-то в лицо назвал вас беспринципным ублюдком, который играет чужой жизнью и смертью. Хладнокровным психопатом, отправляющим на смерть сотни человек. Или даже душевнобольным выродком, который считает, что установил с самой смертью особые отношения. Вы хотели услышать от фон Мердера то, в чем уверились сами и чему хотели подтверждения. Вам просто не повезло. Оберст сломался. Он был человеком долга и принял ту правду, что вы ему дали. О мертвецах, которые спасут Германию. И долг не позволил ему идти против этой правды. Он вдруг понял, что лавровые венки победы, подвиги и несгибаемое мужество, словом, все то, чему он посвятил жизнь, – это вздор. И для того, чтобы выиграть войну, надо хладнокровно убить своих собственных солдат. Чтобы совершить высочайшее благо, надо совершить не имеющее прощения зло. Он, сам отправивший немало человек на верную смерть, вдруг понял истинный вкус победы, к которой всегда рвался. Осознал парадоксальный цинизм этой ситуации.
Читать дальше
![Константин Соловьев Господин мертвец. Том 2 [litres] обложка книги](/books/432858/konstantin-solovev-gospodin-mertvec-tom-2-litre-cover.webp)



![Константин Соловьев - Раубриттер [I - III]](/books/405810/konstantin-solovev-raubritter-i-iii-thumb.webp)
![Константин Соловьев - Prudentia [litres]](/books/431499/konstantin-solovev-prudentia-litres-thumb.webp)