Туча держит мои запястья и кричит, отчаянно и так же громко, как другие женщины, в её глазах – безумие, отчаянье, безысходность. Я слишком далеко от гномов, теснящих людей к воде, у меня решительно нет возможности поднять меч, поскольку Туча не дает этого сделать. Я обнимаю её одной рукой за шею, прижимаю к себе, глажу по хрупким колючим плечам.
Зачем же я забрал тебя из Болотья, зачем?
От залива, который протянулся восточнее поселения, приближаются скальные гроблины, немыслимо большие и страшные, а в ненастоящем затменном свете они кажутся еще страшнее, словно самый цепкий из твоих кошмаров ожил и пришел забрать тебя с собой. Скальные гроблины очень велики, они куда крупнее и могучее варок, у них бесконечные плечи и длиннющие руки, большие головы с мощными челюстями, которые, как мне думается, способны без больших усилий перекусить человеческое тело.
Удивительно, сколь большое количество скальных гроблинов, оказывается, таилось всё это время в горах, на другой стороне залива.
Некоторая часть моего сознания, способная еще к беспристрастной оценке событий, подсказывает, что выхода нет, если только мы не намерены сесть в лодки и уплыть за море. Я оглядываюсь на берег и вижу, что он кишит скотокрабами. Наверняка там, в глубокой воде, ждут сирены, и жажда отмщения кипит в их крови.
И тогда я совершаю самый, вероятно, малодушный поступок в своей жизни: пытаюсь сбежать в Хмурый мир. Я раскидываю руки, почти стряхивая с себя Тучу, и хочу упасть в серое марево, но…
Его больше нет. Хмурый мир перестал быть.
Внутри меня буянит какая-то новая сила, но я не знаю, что делать с нею. Я растерян бесповоротно и окончательно, потому что Хмурая сторона была всегда, и во многие из последних дней она незримо присутствовала подле меня даже в солнечном мире – теперь же её не стало, пропали дымкие силуэты, пропали кочки и запах акации, пропало всё, и даже если я выпью чан Пёрышка – не смогу попасть на Хмурую сторону, потому что…
Её! Больше! Нет!
В самый последний, решающий миг кто-то выдернул у меня из-под ног единственную дорогу, по которой я имел вероятность сбежать от того, что здесь происходит.
Гроблины ревут, бросают камни, выхватывают из толпы некоторых людей и варок, воинственно вопят и отрывают их руки или ноги, а потом бросают окровавленные тела и их части обратно в визжащих людей.
Мне невыразимо стыдно за то, что я пытался сбежать, бросив Тучу. Подхватываю её, легкую и перепуганную, закидываю на плечо, даже не тревожась, что сдавливаю ей живот. Это не имеет никакого значения, потому что мы все умрем сегодня, под красновато-затменным светом потухшего солнца.
Никакого выбора для нас не существует, кроме единственного: как именно мы пожелаем умереть. Но такой выбор – это уже очень много.
Я бы даже осмелился утверждать, что он бесценен.
Отбрасываю ненужный меч. Всё это не имеет больше ни малейшего смысла, я понимаю это, видя окровавленные тела стражников под каменным градом скальных гроблинов, выхватывая взглядом голову Зануда на пике у гнома, морщась от криков баб и детей, которых теснят к морю, а там – беспокойная вода, она пенится от поднятых клешней гигантских скотокрабов и…
Мы с Тучей тоже пойдём к морю, вот какое решение я принимаю.
Краснохвостой сирене бы это понравилось. Хотя дело, конечно, вовсе не в ней.
– Знать правду обо всем – жуткая мука, – говорит Чародей, не открывая глаз.
Он стоит, привалившись спиной к камину, такому же старому и заледенелому, как то, что внутри Чародея. После возвращения он долго плескался в корыте и вычесывал седые волосы, удивительно густые, стриг бороду – получалось не очень. Истлевшую хламиду он сменил на платье, добытое в недрах одного из сундуков. Платье похоже на дедовское, только вышивка на нем бледная. Словом, теперь Чародей, наверное, более-менее похож на себя прежнего, до-творинного. Если издалека смотреть.
Я хожу туда-сюда по закутку, где прежде был тот самый кабинет: вот стол, заваленный пыльными пергаментами, вот шкаф со склянками, коробками, сломанными писчими перьями и прочим барахлом. Повсюду подсвечники, в стены врезаны кованые держатели для светильников, но от самих светильников остались только обломки стеклышек.
Птаха стоит у лестницы, на меня смотрит очень внимательно, а на Чародея не глядит. Чем-то он ей ужасно неприятен, я вижу это, но не понимаю, в чем дело.
Остальные стоят и сидят на сундуках у дальней стены, не вмешиваются. Очень интересное дело. Они годами рвали жилы, чтобы найти этого старикашку, а теперь просто сидят и пялятся на него, как на солнце ясное – уж солнце-то наверняка само знает, как ему двигаться по небосводу и куда светить.
Читать дальше


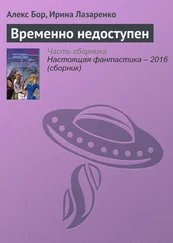

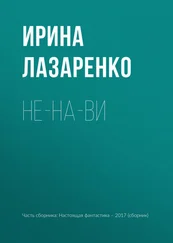




![Ирина Лазаренко - Клятва золотого дракона [litres]](/books/433565/irina-lazarenko-klyatva-zolotogo-drakona-litres-thumb.webp)


