Все это было. Имело место. Произошло. И потому я не мог понять, почему это казалось мне…
Маловажным…
Несущественным.
Я тяжело вздохнул. Я устал от этих воспоминаний. Я чувствовал себя усталым, как и тогда, во время боя. Как тогда, я чувствовал боль в шее и тяжесть собственных рук. Шрам на голове пульсировал, рвался разъярившейся болью.
Изульт Белорукая, долго смотревшая в окно, на окутанный тучами горизонт, медленно повернула ко мне свое лицо.
— Зачем ты прибыл сюда, Моргольт из Ольстера?
Что я мог ей ответить? Мне не хотелось выдавать существование черной пустоты в памяти. Не было смысла рассказывать и о темном бесконечном коридоре. Как всегда, оставался рыцарский кодекс, всеми признанная и уважаемая норма. Я поднялся.
— Я здесь, в твоем распоряжении, госпожа Изульт, — сказал я, кланяясь, будто проглотил палку. Такой поклон я подсмотрел у Кея в Камелоте; он всегда казался мне достойным подражания. — Я прибыл сюда, чтобы исполнить любой твой приказ. Так что распоряжайся моей жизнью, госпожа Изульт.
— Боюсь, Моргольт, что уже поздно… — ломая пальцы, ответила она.
Я видел слезу, узкую и блестящую полосу, ползущую вниз от уголка ее глаза. И я чувствовал запах яблок.
— Легенда кончается, Моргольт.
За ужином Изульт не составила нам компании. Мы были одни, я и Бранвен, если не считать капеллана с блестящей тонзурой. Но он нам не мешал. Пробормотав краткую молитву и перекрестив стол, он предался обжорству. Очень скоро я вообще перестал его замечать. Как будто он был там все время. Всегда.
— Бранвен?
— Да, Моргольт?
— Так откуда ты узнала?
— Я помню тебя по Ирландии, по королевскому двору. Очень хорошо помню. Не думаю, чтобы т ы помнил меня . Тогда ты не обращал на меня внимания, Моргольт, хотя… сегодня я могу тебе признаться, что старалась, чтобы ты меня заметил. Но понятно — там, где была Изульт, других не замечали.
— Нет, Бранвен. Я помню тебя. Это сегодня я не узнал тебя, потому что…
— Потому что?
— Тогда, в Байле Ата Клиат… ты всегда улыбалась.
Молчание.
— Бранвен?
— Да, Моргольт?
— Что с Тристаном?
— Плохо. Рана гниет и не хочет заживать. Выглядит ужасно.
— Неужели он…
— Пока верит, живет. А он верит.
— Во что?
— В нее.
Молчание.
— Бранвен…
— Да, Моргольт.
— А Изульт Златокудрая… Разве королева… действительно приплывет сюда из Тинтагеля?
— Не знаю, Моргольт. Но он верит.
Молчание.
— Моргольт.
— Да, Бранвен.
— Я сказала Тристану, что ты здесь. Он хочет видеть тебя. Завтра.
— Хорошо.
Молчание.
— Моргольт.
— Да, Бранвен.
— Там, в дюнах…
— Это не имело значения, Бранвен.
— Имело. Прошу тебя, постарайся понять. Я не хотела, не могла позволить, чтобы ты погиб. Я не могла допустить, чтобы стрела из арбалета, глупый бездумный кусок дерева и металла, перечеркнула… Я не могла этого допустить. Любой ценой, даже ценой твоего презрения. А там, в дюнах… Цена, которую назначили они, казалась мне не такой уж высокой. Видишь ли, Моргольт…
— Бранвен, пожалуйста… Хватит.
— Мне уже случалось платить собой.
— Бранвен. Ни слова больше.
Она коснулась моей руки, и ее прикосновение, хотите верьте, хотите нет, было алым шаром солнца, встающего после долгой и холодной ночи, запахом яблок, прыжком коня, идущего в атаку. Она поглядела мне в глаза, и взгляд ее был как трепетание стягов на ветру, как музыка, как прикосновение соболей к щеке. Бранвен смеющаяся, Бранвен из Байле Ата Клиат. Серьезная, спокойная и печальная Бранвен из Корнуэлла, с глазами, которые все знают. А может быть, в вине, которое мы пили, что-то было? Как в том вине, которое Тристан и Златокудрая выпили в открытом море?
— Бранвен…
— Да, Моргольт?
— Ничего. Я только хотел услышать звук твоего имени.
Молчание.
Шум моря, мерный, глухой, а в нем шепоты, надоедливые, повторяющиеся, невыносимо упрямые.
И молчание.
— Моргольт.
— Тристан.
А он изменился. Тогда, в Байле Ата Клиат, это был юнец, веселый парень с мечтательными глазами, всегда с неизменной миленькой улыбочкой, от которой у дамочек чесался передок. Улыбочка, постоянная улыбочка, даже тогда, когда мы рубились в Дунн Логхайр. А сейчас… Сейчас его лицо было серым и истощенным, покрытым блестящими струйками пота, полопавшиеся, скривленные в подкову боли губы, провалившиеся и почерневшие от муки глаза.
А еще он вонял. Смердел болезнью. Смертью. И страхом.
— Ты еще живешь, ирландец.
Читать дальше





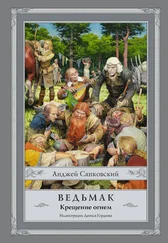
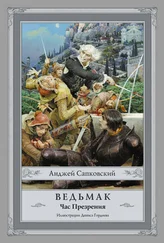



![Анджей Сапковский - Ведьмак [«Сага о Геральте» – в одном томе, 2020 год] [сборник litres]](/books/400490/andzhej-sapkovskij-vedmak-saga-o-geralte-v-o-thumb.webp)