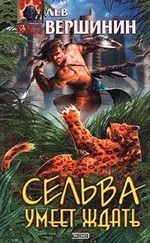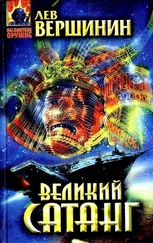Но по ночам было трудно. Тетка наверху стонала и плакала, это мешало, папа не высыпался и кричал на всех. Правда, когда умерла бабушка, стало просторнее, но старшая по коридору, мразь, настучала, что появился излишек метража, и Омотолу переселили в восьмиметровку старший, хотя, по правде, не имели права; троих — в девять метров, это не по закону, Хефе так не велит, мы ж не в Америке какой; мама ворчала, но старалась делать это потише, до Хефе далеко, а пониже у старшой все схвачено: и брат в оливковых, и муж, говорят, в Доме Правды истопником.
Слухи, впрочем, не подтвердились; уже в регистратуре Дан занялся этим вопросом. Истопник-то истопник, да не и самом Доме, а при кухне. Невелика шишка. Когда старшую увезли на перевоспитание, мама так радовалась! А Дан был спокоен. Он только восстановил порядок, у Хефе до всего руки не дойдут, а люди жадные, злые, жить но правде не хотят, так значит, помочь надо, чтоб все по честности. Маме, ясное дело, он ничего не сказал. Пусть думает, что старшую Бог наказал.
Честно и хорошо жила семья Омотолу.
Эх, как ходила Ильда по их комнате, как озиралась, глупая, поверить никак не могла. И то, семь метров на двоих, да еще ж и рацион. Шестьсот граммов одного только хлеба, да два супа на день, не польских, конечно, зато раз в декаду консервы, рыбные, хорошие, из советских поставок. Томат, фосфор… они отделяли немного для родителей, те радовались, как маленькие, качали головами, а чего удивляться, все заработано!
Какой пир они устроили в первую отоварку…
…Воспоминание было настолько острым, что у Дана заломило в висках, приглушив сосущий голод. Они сидели тогда прямо на полу, подстелив газету, угощались, Ильда смеялась, а ночью они любили друг друга; она заснула только на рассвете, короткий счастливый сон, а Дан так и не заснул; он лежал, подложив ладонь под голову, Ильда привалилась к плечу, посапывала сладко и доверчиво, а рядом не подхрюкивал шурин и не подстанывала сестра, а с антресолей не пахло теткой, вокруг было чисто и пусто. Ну и черт с ним, что пусто! — заработаем, выдадут и раскладушку, и стол со стульями, руки есть, голова на плечах. И Хефе улыбался ему, словно говоря: правильно, Дан, верно, всем нынче трудно, но мы добьемся, построим, воздвигнем — своим трудом, для себя, не для чужого дяди; у Хефе на портрете было усталое лицо, нездорово-бледное; как же он постарел, подумал Дан, дай легко ли думать обо всех, люди же неблагодарные, им бы только на себя тянуть, урвут — и в нору.
Прости их, Хефе, сказал тогда Дан одними губами, чтобы не потревожить Ильду, куда им понять, я-то понимаю, у нас во взводе тоже: сержант учил-учил, а мы, дурни, слушать не хотели, ну и гробанулись трое на учениях, потом слушали. Я люблю тебя, Хефе, можешь положиться. И Дан не врал; чувство к Хефе, вырвавшееся в это утро, переполнило сердце, оно вместило в себя и нежность, к Ильде, и шершавость отцовской руки, и кисловатый вкус хлеба, мокрого немного, но самого сладкого на свете, и раздолье новой комнаты, и вообще все, что только было в жизни у Дана.
И он впрягся в работу от всей души: он и так не умел работать плохо, в роду Омотолу такого не водилось, но с того утра Дан в гр ыз ся по-настоящему , на износ, и это заметили: его поощрили в приказе раз, и другой, и еще раз — с телевизором в придачу, и намекнули, что уже готов ордер на велосипед, а под Новый Год можно ждать повышения, вот только старайся, Дан, оправдывай…
И все это рухнуло…
Тянущая боль под грудью снова окрепла. Дан выдвинул ящик стола, развернул пакет, аккуратно отрезал ломтик. Мало хлеба, очень мало, а взять негде, выйти отсюда нечего и думать, приказ! Хлеб сильно подсох, хотя и в целлофане, но все равно остался хлебом. Вкусный, кисловатый, конечно, с мелкими щепочками… буржуйские штучки, шастают, подбрасывают, пакостят, как могут. Плевать. Перетерпим и это. За белый огрызок в хомут не пойдем, свободу не продадим.
Хлеб есть, немного, но дня на три растянем, воды сколько угодно, автомат — вот он, а рожков к нему вообще целая куча, на год хватит, если хорошо окопаться. Жить можно. Они не пройдут!
— …они не пройдут!
Диктор повысил голос. Показывали «волков».
Их вели по улицам, держа под прицелом. Четыре солдатика тонули в беснующейся толпе, но ребята шли спокойно, не глядя по сторонам. Дан вздрогнул. Ильда? Нет, просто похожа. Такая же веснушчатая. Ох, как же ее скрутили, скоты…
— …и не может быть пощады!
Когда они успели? Дан лишь на миг отошел к умывальнику, а «волки» уже висели на фонаре, по двое на каждой из чугунных веток. Солдатики стояли, растерянно оглядываясь, а толпа ликовала и в дулах автоматов торчали гвоздики, а офицер размахивал рукой и что-то кричал, словно бы запрещая, но кричал не особенно строго, да и что уже было запрещать?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу