Я отчего-то вспомнил Эдипа, вытекающие белки его глаз.
— Далече отправился. Ты в детстве в чьем пионерлагере был?
Я невольно ойкнул, это уже не игрушки. И дружина моя пионерская тоже его имя носила. И портрет у меня дома висел. Как же, герой.
«На полу лежит отец
Весь от крови розовый.
Это сын его играл
В Павлика Морозова»,
— весело пропел старик и осушил рюмку.
— Сметлив народец, а скажу тебе, ежли частушки есть — все, легенда, фольклорный герой, и чисткой да переоценками его из памяти народной не вылущишь… — Старик хлопнул еще одну, утерся, не закусывая. — Конечно, герой, и без шуточек. Павлик Морозов — пионер-герой. Только герой красного, слышишь, не белого покрова. Ох, да что я в историю-то за примерами лезу? Скажи, ты сейчас чего кушал, телятинку в соусе венском? Емеля! — хлопнул в ладоши старик и снова оборотился ко мне. — А знаешь ли ты, что представляла собой сия тварь, пока ее не закололи специально, я подчеркиваю, специально для тебя. Вы же, судари, парную заказывали!
И тут из темного провала вынырнули двое знакомых половых, неся впереди себя нечто покрытое белоснежной салфеткой. На ткани медленно проступали бурые пятна. Я все понял.
У стола они остановились, напряжение читалось в их лицах. Я видел, как растекались на мраморном полу капельки крови.
Старик сдернул рушник.
Темные огромные глаза годовалой телки смотрели на меня, излучая укор и печаль. В каком-то чудовищном подобии улыбки застыли толстые губы. Дальше — кровавый обод спекшейся крови.
Мне стало дурно. Я икнул. Кто-то трахнул меня по спине. Пища, уж было полезшая вверх, покорно улеглась обратно.
— Вот еще, фокусы, — спокойно сказал старик, — нет уж, блевать после общепита будешь, эту снедь попридержи, блевать тут, брат, не по карману будет… Так без скорби-то всемирной в глазках коровьих — сладко бы небось пошло, а в глазки заглянул — блевать тянет? Покров брат, и здесь покровчик лежит. Специализация, конвейеризация, кулинаризация. Ну и совести, само собой, нет. Это не в счет. Герои, понимаешь, телок жрать. Говядину жестко им будет… Детоубийцы! — Ха-ха-ха! — как-то совсем противно, по-козлиному захохотал старик.
— Только не дунди, что не зло, мол, а необходимость. Необъезжен-ность — вот что!.. Да ты в зеркало-то не пялься, — заметил мою скуку старик, — а вдруг, не то чего углядишь, вдруг не ты тама, а пир — горой, шабаш какой с нечистью… Ух-ху-ху!
Этот киник XX века, этот любомудр в лохмотьях, этот валютный нищий, попрошайка долларовая, кажется, сходил с ума и заразительно сходил, каналья! Иначе с чего бы это в зеркале справа от меня я не нашел своей — пусть пьяной, пусть напуганной и истосковавшейся, но своей! — физиономии. «Игра отражений», — подумал. Решил по сторонам поискать. Дальше — ничего, точнее, пир горой. Преогромнейший. А глядел на меня хмырь какой-то, я потянулся — за руку его схватить, а он мне — кулачище и язык высовывает…
— Я ж говорю, не тронь покрова, особливо где тонко… Тронешь — полезет, а там гадай, что под ним, может и нету ничего вонючего, а может и хлынуть… Был тут у меня один, акварелист… Так себе, художничек… Мечтатель… Может и обошлось бы, так нет — увидел копье Лонгиново, — остолбенел прямо. С дырочки все началось, манюсенькая поначалу была, а потом как поперло! Знатная брешь зияла — трупами штопали — не заштопали. А знаешь, помогло что? Слушай, закон тебе новый. Брешь дыру не перескочит. Разумеешь, наехала коса на камень, то бишь бездна на бездну. Дыру в дыре не провертишь, — о, так получше будет… А жаль, затейный был покровчик… А что из людей сделал, из хрюкал этих колбасных — рыцарей! «Drang nach Ostcn»* (Поход на Восток — нем.). Магические дела вертел. Свастику, круг перемен, не посолонь закручивал, обратное направление дал — к Гигантам вернуться хотел, к падению первой Луны. Какой выделки работка была — факелы, шествия, ночь сверлили прожекторами… А теперь чего — синтипон, что-ли, ну дрянь эта искусственная, без затей, без узору… Хрум-хрум, чмяк-чмяк… Где дэвы, асы, асиньи ясноглазые, ваны где, Локи коварный?..
Старик сидел чуть не плача, ковыряя вилкой в пустой тарелке. Во гад, жалеть чего начал, — подумалось мне. Но когда этот несостояв-шийся фашист поднял голову, выглядел он не жалко, а скорее жалостливо. По отношению ко мне, разумеется. Он что, о мошне моей соболезнует, так у меня все одно не хватит — валютное подаяние тратить придется. Старик на крючке у меня, и неча смотреть жалостливо.
Читать дальше




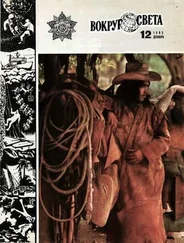
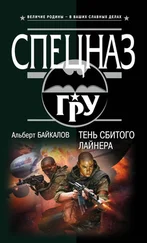

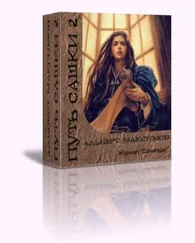
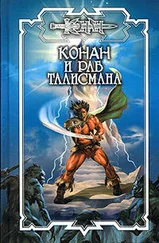
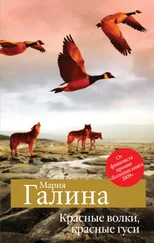
![Роберт Сальваторе - В тени лесов [Серебристые тени]](/books/337641/robert-salvatore-v-teni-lesov-serebristye-teni-thumb.webp)

