Больше, чем хотелось бы.
Я должен собирать и рассказывать истории, чтобы Соледад смеялась и плакала. Я должен снимать эти истории на пленку внутри своей головы. Без этих историй, чья суть — пар, она исчезнет. Это топливо, с помощью которого я управляю Машиной. Я не уверен, но мне кажется, что если Соледад перестанет смеяться и плакать, то мир — единый, тот, что лепестками крутится вокруг Машины, — сойдет с оси, и тогда шестеренки разлетятся в разные стороны, ремни передач порвутся, и мы навсегда останемся в темноте. Может, еще останется дождь.
Я могу перемещаться между мирами и временами, я просеиваю между пальцами локации и века, но я не могу покинуть котельную.
Когда ты выйдешь на улицу своего светлого города, заполненного электрическими машинами и траволаторами (возможно, это Москва, Пекин или Лондон), или своего темного города, мощенного деревом, или города, где каждый житель записан в big data, где люди ищут партнера через блокчейн-сервисы, а их автомобили работают на биотехнологиях, или на улицу многоярусного города, покрытого черным снегом, паровыми трубами, в чьем небе парят цеппелины…
На улицу любого города, где есть люди.
Когда выйдешь, остановись на секунду у двери подвала, котельной или подстанции. Прислушайся. Иногда там слышно скрипучий голос и женский смех. Или скрипучий голос и женский плач. Это я рассказываю истории, а Соледад смеется или плачет. Заходи на огонек, мы будем рады гостям.
Я до сих пор мечтаю, что это просто затянувшийся сеанс стимокинетической психодрамы. Скоро это закончится, и доктор скажет — молодец, парень, мы далеко продвинулись. Жду тебя на следующей неделе. Приходи обязательно. Я обязательно пришел бы. Но меня никто не ждет.
Фонари над улицей давно погасли. На проспекте пыхтит ранний трамвай. Нежно-розовый свет подкрашивает грязные крыши, пробивается сквозь трубы паровых коммуникаций. Снег на крышах искрится, словно темный бархат под прожектором. Силуэты радиоантенн на крышах плавятся и подрагивают. Розовый свет переходит в желтый, желтый переходит в оранжевый. Серые стены домов тонут в огненном зареве. Птицы поют, а воздух свежий и сладкий, как березовый сок.
Это лучшее, что я видел в своей жизни.
Но если я когда-нибудь встречу владельца Машины или хотя бы почтальона Ириску — а я хорошо научился ждать, — я убью их.
1
Вон на стене дагеротипия. Не знаю уж, почему на флоте не приживаются новомодные фотографии, однако их и впрямь никто не держит на виду. Примета, что ли, такая? Все не успеваю спросить — да и нужно ли?
На снимке мы, все шестеро, лыбимся, как дурные, и смотрим куда-то вверх. Позже я расскажу, что там видно было-то смешного… времени-то хватит, да? Вот и я так думаю.
Шестеро.
Валька, старший, даже расправил как-то вечную прорезь между мохнатыми бровями, и — чудная вещь! — оказалось, что глаза-то у здоровяка совершенно детские, чистые, обаятельно изумленные. Талек, тот, как и всегда: чистое личико, ухи врастопырку, ямочка на щеке и широко распахнутые глаза бешеной, накурившейся опия крысы. Яд благородного безумия, а то. Котька — он Котька и есть: белый весь, особенно волосы и брови, голый по пояс, потому как душно ему. Чуть подвсплыл, бедолага.
А дальше — это я.
Да говорю! Сам бы не поверил. Хотя — годы и не то делают, а тут, на срезе событий, сами понимаете, как время движется. Летит… нет, не летит. Плывет, собака. Плывет.
На дагеротипии мы все куда симпатичнее, чем тут, в жизни.
Даже я.
* * *
Влад отодвинул рукопись и наклонил голову, присматриваясь к обшарпанным краям верхних листов. Струя стылого воздуха из вентиляции нехотя ворошила их, пряча от глаз имя автора.
— Ловко, — нехотя признал Влад и снял очки. Уставился в окно, даже сквозь занавески переливавшееся цветными сполохами. Цыкнул больным с утра зубом и набулькал из графина в стакан. — Но разве эта… дымовая завеса — самое важное наше задание?
— Кое-кому, — лениво заявила Тамара, — настрого запретили с утра пить.
Влад дернул плечом: мало ли чего кому запретили — и ахнул стакан махом. Зажмурился, засопел сердито, пережидая пожар в глотке. Так и не научился пить, подумал про себя, почти не зло. Так и не научился… салабон. Лимончику бы, да где те лимончики.
От кабинетной работы воротило с души, а больные косточки пальцев левой руки жгло огнем.
Тамара приподнялась на локте со змеиной грацией, смотрела неторопливым змеиным взглядом, сужая зрачки почти незаметно, потом медленно высунула кончик языка. Темная, недобрая. Родная.
Читать дальше
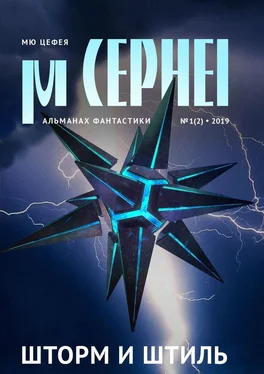
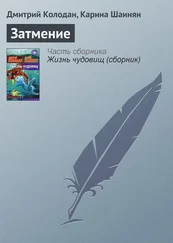
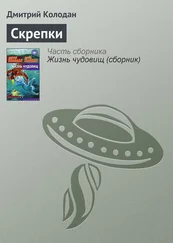


![Дмитро Ткач - Шторм и штиль[с иллюстрациями]](/books/271548/dmitro-tkach-shtorm-i-shtil-s-illyustraciyami-thumb.webp)





