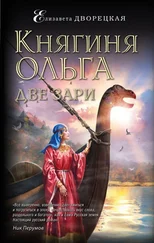Ингер перед смертью вставил и третью палку в колесо его замысла: взимая дань на Прекрасу и чадо, он крепко вбил в головы древлян мысль о том, что именно эти двое – его наследники. И достиг своей цели: будучи сам уже мертв, не позволил Свену отодвинуть их в сторону в самый первый, решающий миг. А теперь стало поздно: выступи он сейчас против Прекрасы, поставит себя на одну доску с ее врагами-древлянами.
Над притязаниями женщины идти на войну можно было бы посмеяться, не имей она в руках военной силы. А у Прекрасы был Кольберн с его нерушимой клятвой и прочие бояре, отосланные Ингером, как выяснилось, так кстати. В земле Деревской эти две сотни могли бы и не изменить исхода дела – Хвалимир перебил бы их заодно с гридями, только что бой вышел бы не таким скоротечным. А вот в Киеве они изменили все. И Свену пришлось, махнув рукой на прежний, рухнувший замысел, пытаться понять, как действовать сейчас.
Одно было ясно: похода не избежать, и надо собирать войско.
Но с кем об этом говорить? С Прекрасой – русалкой, которую он сам же столько лет презрительно называл «перевозницей»? Эта мысль Свену претила, казалась такой же нелепой, как разговор с коровой, собакой, воротным столбом! Ему, мужчине, воину, воеводе, сыну прославленного Ельга, ждать приказов от женщины невесть какого рода? Да разве можно? Ингер был законным владыкой, которому втемяшилось взять низкородную жену, что его не красило, но не отменяло его собственных прав; сама же эта жена, без Ингера, во владыки никак не годилась.
Свен поднял глаза на Ельгу: сестра шепталась с Асмундом, сидя к нему так близко, что их колени плотно соприкасались. Несмотря на общую тревогу, сотский смотрел на нее с обожанием и надеждой.
Окажись Леляна той женщиной на княжьем столе, что вынуждена возглавлять мужчин, ей Свен подчинился бы гораздо легче. Законная дочь старого Ельга – не то, что прочие женщины. Она рождена валькирией, отлита из чистого золота. Но та, что носит ее священное имя, как коза седло… Думая об этом, Свен себя видел оседланным козлом, вынужденным везти нежеланную всадницу.
Но сколько же можно так сидеть? Свен томился от бездействия, но не мог заставить себя сделать еще один шаг навстречу Прекрасе. Ему и первый-то стоил напряжения всех сил.
– Леляна! – наконец он хоть что-то надумал. – Хватит тебе с этим рыжим обжиматься! – Те двое отпрянули друг от друга, обнаружив, что он на них смотрит, и это хоть немного развлекло Свена. – Ратьша голову сложил, ну а вдруг она тебя за Шепелявого выдать надумает? Он у нее теперь в первых мужах ходит.
– Я… – с возмущением начала Ельга; Асмунд тоже вдохнул и открыл рот, но Свен и так знал, что он скажет.
– Тихо! – он махнул на них рукой. – Съездила бы ты к ней. Тебя авось пропустят. Узнаешь… что она делать думает.
Ельга вздохнула, успокаиваясь. Потом кивнула:
– Я съезжу. Может, Святку привезу. Ей не до дитяти сейчас.
Перед тем как выйти из дома, она велела вновь достать из ларя свою «печальную» сряду, ту самую, которую носила год после смерти отца, а потом по всем тем, кто пал в походе на греков. Все белое, лишь с тонкой, как положено деве, отделкой красным и черным плетеным шнуром. Челядинка подала ей длинный кожух на бурой кунице, покрытый белой шерстью с узкими полосами голубого шелка. Надев его, Ельга вышла к крыльцу, где отроки держали трех оседланных коней. Асмунд вышел вместе с ней. Собираясь помочь Ельге сесть в седло, он взял ее руку и ободряюще сжал. И в те далекие дни, когда старая Ельгова дружина чуть не посадила на отцовский престол его семнадцатилетнюю дочь, и теперь, когда за этот престол вцепилась другая, Асмунд любил свою истинную госпожу одинаково сильно.
Ельга придвинулась к нему и поцеловала – впервые на глазах у всего двора, не заботясь, кто на них смотрит. Сейчас, когда былое рушилось, а будущее пряталось в темном тумане, любовь к Асмунду осталась прочной, как остров в бурном море. И в Ельге крепла решимость держаться за нее изо всех сил.
* * *
Однако Ельга была не единственной, кто в это время хотел повидаться с Прекрасой, и кое-кто преуспел в этом раньше нее. Проводив сани с тремя белыми вестниками за ворота Горы и убедившись, что они тронулись по Древлянской дороге, Кольберн вернулся в город и через служанку настойчиво попросил Прекрасу его принять.
Выходить в гридницу у нее не было сил, и она велела позвать его в избу. Войдя и разогнувшись, Кольберн вздрогнул: в глаза бросилась белая фигура на ларе, застывшая и похожая на ночную бабочку со сложенными крыльями. Прекраса уже надела «печальную сряду», которую прежде носила по своим детям. И сейчас эта одежда шла к ней, как собственная кожа. Каждая черта ее, каждая ресница сливалась в общий облик скорби. Она не рыдала, но от нее веяло опустошенностью и холодом, будто прозрачные соленые слезы отныне текут в ее жилах вместо горячей красной крови.
Читать дальше
![Елизавета Дворецкая Дар берегини. Последняя заря [litres] обложка книги](/books/387655/elizaveta-dvoreckaya-dar-beregini-poslednyaya-zarya-cover.webp)


![Елизавета Дворецкая - Пламя северных вод [litres]](/books/384763/elizaveta-dvoreckaya-plamya-severnyh-vod-litres-thumb.webp)
![Елизавета Дворецкая - За краем Окольного [litres]](/books/384882/elizaveta-dvoreckaya-za-kraem-okolnogo-litres-thumb.webp)

![Елизавета Дворецкая - Малуша. Пламя северных вод [СИ litres]](/books/397843/elizaveta-dvoreckaya-malusha-plamya-severnyh-vod-si-thumb.webp)
![Елизавета Дворецкая - Княгиня Ольга. Пламенеющий миф [litres]](/books/398429/elizaveta-dvoreckaya-knyaginya-olga-plameneyuchij-mif-thumb.webp)
![Елизавета Дворецкая - Две зари [litres]](/books/400323/elizaveta-dvoreckaya-dve-zari-litres-thumb.webp)
![Елизавета Дворецкая - Княгиня Ольга. Сокол над лесами [litres]](/books/410452/elizaveta-dvoreckaya-knyaginya-olga-sokol-nad-lesam-thumb.webp)
![Елизавета Дворецкая - Огненные птицы [litres]](/books/417710/elizaveta-dvoreckaya-ognennye-pticy-litres-thumb.webp)