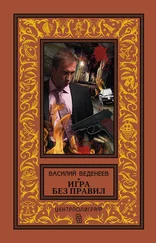Василий Доконт
Мы зовём тебя править
Когда я писал эту книгу - столкнулся с проблемой. Мне нужно было передать мысленный разговор между персонажами, не нарушая темпа общих, звуковых, бесед, учитывая при этом, что обмен мыслеречью происходит одновременно с ними.
Вспомнив применение другими авторами в подобной ситуации курсива, я попробовал его. Мне не понравилось. На мой взгляд, курсив разрывает текст на странице и создает при чтении паузы совсем не там, где мне хочется. Сама же страница с курсивом получилась перегруженной и неудобной для восприятия.
Мы давно привыкли, что мысли героев в тексте заключаются в кавычки. Почему же, спрашивается, нельзя в кавычки взять прямую мыслеречь? Попробовал кавычки: получилось. Так и оставил, в надежде на то, что читатель поймёт меня правильно. А русский язык выдержит подобную вольность с моей стороны. Итак, помните: прямая речь, взятая в кавычки, в этой книге, как правило - мысленная.
1.
"…И тогда колдун проворчал:
- Как же ты мне надоел, любезный, - и начал бормотать заклинания, чтобы превратить Ивара в собаку…"
Василий снова перечитал последние строки и, вздохнув, вытащил из машинки недопечатанный лист, смял его и бросил на пол: опять было не то. Книга рождалась тяжело, в мучениях, и за три месяца ежедневных многочасовых трудов более-менее годились в дело всего около ста страниц текста - только по странице в день.
Такая производительность при сомнительном качестве прозы грозила поставить начинающего писателя в довольно трудное положение. Насколько ему было известно, способа быть сытым только в результате творческого процесса ещё не открыли, и капризный желудок за пять лет случайного питания совершенно испортился, угрожая то ли катаром, то ли язвой, то ли ещё неизвестно чем.
Головин не был плохим писателем, голодающим на почве собственной бездарности или козней таких же бездарных завистников. Он вообще не был писателем. На тернистый путь литератора он ступил недавно, три месяца назад, когда, доведенный его бесконечным нытьём до белого каления, приятель подарил ему печатную машинку в надежде, что удастся при встречах с Василием говорить не только о нём, Головине, незаслуженно обиженном и людьми и жизнью, а, например, о футболе или рыбалке.
- Как инженер, ты себя уже проявил. Как коммерсант - тоже. Если ты всё ещё уверен, что ты - человек одарённый, попробуй это, - сказал приятель, передавая Василию бабушку печатного дела, созданную неандертальцем во время отдыха от охоты на мамонта, - Напиши о своих невзгодах книгу, а мне твоя биография уже надоела…
Василию она надоела намного больше, но, в отличие от приятеля, он не мог от неё отделаться так просто: ему в этой биографии приходилось жить, пользуясь всеми, ею созданными, условиями, набор которых был сильно ограничен, и с каждым прожитым днём сокращался всё более и более.
Писать о ней не хотелось. О ней даже думать было противно, и поползли по белым форматным листам неуклюжие строки полуфантастического романа из жизни рыцарей, колдунов, красавиц и ведьм.
Тюкая по клавишам одним пальцем, Василий пытался увековечить своё скромное воображение, на практике постигая тонкости и секреты писательского мастерства, и тут же создавая и саму теорию. Критерием качества он поставил простое определение "нравится" - "не нравится" и двинулся по едва заметной тропе гениальности.
Критерий работал не хуже бритвы Оккама, и папка с рукописью пополнялась слишком медленно. Лёгкость, с которой Василий постигал различные умения в детстве (он рисовал, лепил, пел, писал стихи), покинула его где-то на долгом жизненном пути, оставив сорокавосьмилетнему новичку горечь досады и чувство вкуса - единственную замену филологическому образованию. И он безжалостно кромсал каждую вымученную строку, каждый выстраданный абзац, выбрасывая всё, вызывающее подозрение в халтуре или плохо созвучное с уже написанным ранее.
Попытка написать книгу была настоящей авантюрой, но она была и единственным, в случае удачи, выходом из неудачно сложившейся жизненной ситуации Головина.
"Мне почти пятьдесят лет, - думал Василий, - пора бы уже определиться. Хоть что-то умею я делать хорошо? Хоть чем-то в состоянии я заниматься с душой и долго? Вот натура - ни себе, ни людям…"
В этом Василий был прав. Как человек, он был "так себе". Про таких в народе говорят: "ни рыба, ни мясо". Когда он был ребёнком, все окружающие видели у него массу достоинств и предсказывали большое будущее. Но кому его не предсказывали? Кто знает, может эти чужие надежды и помешали Головину достичь чего-нибудь путного?
Читать дальше