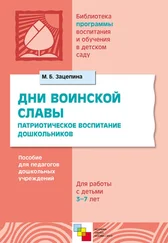Умелым движением он стянул с ее плеч короткий камзол, рванул полы рубашки с высокими манжетами и воротом - перламутровые пуговки брызнули во все стороны. Коршун настаивал, чтобы она носила сорочки только на пуговицах, а не на шнуровке, которая всегда доводила его до бешенства. И пусть стоили они не мало, ибо шились только из самых тонких тканей, украшались вышивкой и предназначались для знати, Такайра тратился, не скупясь, зная, как охватывает его желание рядом с ней - так же молниеносно, как огонь охватил крестьянские дома с соломенными крышами. Он целовал ее совершенное тело жадно, губами теребил тугие соски, покусывал перламутрово мерцающую кожу, на которой завтра останутся красные следы от его жестких пальцев и не менее жестоких губ. Когда понял, что совсем невмоготу, вновь перехватил ее затылок и заставил опуститься вместе с ним сначала на колени, а затем уложил женщину прямо на сухую траву, через которую узловатые корни впивались ей в спину. Сейчас его не волновало, что она чувствует. В крови бушевал отголосок того огня, что доканчивал пир на поляне, и пьянящее чувство собственной силы - и в смерти и в любви, кружило голову посильнее запретного напитка жриц Пресветлой суки. Мара казалась покорной. Позволяла ему делать все, чего он желал: оставить себя на холодной земле обнаженной, вломиться во влажную плоть с упорством вепря, намотать на кулак ее волосы, чтобы заставить, не шевелясь, смотреть себе в глаза. Такайра был жесток в любви и не умел быть другим. Он растворялся в том, что делал, будь это нападение из-за угла или постельные утехи. И каждый прожитый, как последний, день отдалял Коршуна от немощи, болезней и старости, о которых люди его возраста уже начинали задумываться. Он знал, что когда-нибудь, кто-нибудь подстережет его и остановит ход сердца ударом из-за угла - как он сам делал много-много раз. Но чувствовал и другой исход - эта молодая, до сих пор непонятная ему, хотя и много раз познанная женщина, вполне может оказаться его последней радостью. Уже тогда, когда он смотрел на нее пять лет назад: молча, ожесточенно, забыв обо всем, кроме ненависти, сопротивляющуюся братьям Хатам на пыльной дороге в Изирим, уже тогда он догадывался, что, останься она с ним, это тело станет тем, на котором он вполне может завершить свой жизненный путь. Ибо, чтобы любить такую, его сердца однажды не хватит.
Содрогаясь на ней, Такайра не отводил глаз. Лишь в конце, сжимая его бедрами и выгибаясь под ним с силой и гибкостью, которых не могло быть в обычной женщине, она прикрывала веки и запрокидывала лицо. И столько нежности и муки было в нем, что, как ни пытался Коршун, не мог разгадать истинного значения этой гримасы - то ли бесконечно хорошо было ей в его руках, под его тяжестью, то ли отчаянно плохо. Мара никогда не стонала. Жмурила по-кошачьи свои мерцающие глаза и лишь иногда, когда была в настроении для утех, хрипло смеялась, ощущая его семя, которого всегда было много и которое после сочилось из ее жаркого лона, текло по шелковистым бедрам, пачкая их.
Закончив, он провел губами по ее шее - там, под волосами, почти на затылке, с двух сторон были на коже странные, параллельные друг другу рубцы, о происхождении которых она умалчивала. Затем поднялся, застегнулся и, скинув на нее свой тяжелый, кожаный камзол, чтобы укрылась, ушел на поляну. Его до сих пор поражала ее холодостойкость. И кожа у нее всегда была прохладной, лишь, когда он входил в нее... Коршун резко оборвал собственные мысли. Пора было уматывать из разоренной деревни, пока на зарево пожара не прибыли тупые, но многочисленные и хорошо вооруженные стражники из соседнего городка. Такайра порылся в своей седельной сумке, вытащил один из свертков, которых там было несколько, и вернулся к Маре. Она уже поднялась, отряхнула спину и ягодицы от прилепившихся листьев и травинок, вытерлась остатками блузки и ждала его возвращения, накинув на плечи камзол, но так и не запахнувшись.
- Есть колодец? - хрипло спросила она, и Такайра снова почувствовал прилив желания.
Но время было дорого. Он лишь поманил ее за собой, отвел к колодцу, набрал ведро воды. Женщина скинула камзол, оставшись совсем голой. Братья Хаты, бросив телегу, беззастенчиво разглядывали Мару. Садак и Малыш, наоборот, дружно покраснели и отвернулись, а Вок, засмеявшись щербатым ртом, радостно гукнул. Мара не обращала на них внимания. Просто ждала, когда Такайра поднимет ведро и выльет ей на макушку ледяную воду. Вторую порцию он лил уже осторожно. Она, ничуть не смущаясь, смыла с себя чужую кровь и его сперму, распотрошила сверток, в котором лежал чистый комплект одежды. Ее перевязь, сапоги и камзол Коршун принес, пока она одевалась.
Читать дальше