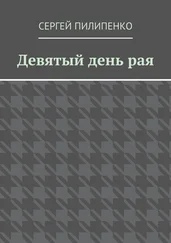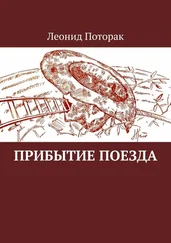Уже у самого дна Аримана накрыла вспышка, а за ней последовала доходящая до глубин Ада дрожь. И он разжал ладони на жерди, глубоко вдохнул, как его учили, и провалился в ничто. Люцифера больше не было. Наверху рассудили, что имитация боя слишком трудозатратна, тем более, зрителей не будет. Участок равнины, на котором стоял Люцифер, обратился в безумное пламя. Ариман знал, что так нужно. И знал, что Эосфор-Люцифер пошел на это добровольно, сознавая, что может произойти. И тогда, уже лежа на горячем, но благословенно (никогда! никогда больше не произносить «благословенно»! — чертовски) — но чертовски твердом, наконец-то твердом и настоящем дне, он понял, что Люцифера им не простит. Не потому, что его кто-то обманул или заставил, а потому, что нельзя, никогда нельзя предлагать романтическим мальчикам умереть. Хотя, по правде сказать, кроме романтических мальчиков, тогда и не было никого.
Но я-то не был романтическим мальчиком, одернул себя Ариман Владимирович. (Кофе остывал). Я-то знал, что меня ждет не подвиг, а грязь, много грязи и много подлости.
Знал, что его будут ненавидеть. Даже те, кто еще помнил его в белых одеждах. Навсегда остаться предателем для своих. Навсегда остаться чудовищем для людей. Ценой жизни Люцифера.
Серафим говорил, что все просто: если Ад невозможно уничтожить, его нужно использовать в своих интересах. Сделать из преисподней идеальную тюрьму. Поставить во главу тюремщика. Чтобы в яму, куда прежде проваливался каждый второй, теперь попадали те, кто не проходил отбора наверху. Все это было нужно, согласился Ариман Владимирович. Но не думал же я тогда, в самом деле, о долге. А ведь я бы еще долго продержался на своем посту. Я ведь действительно делал то, что должен. Я даже научился быть злым. Добро умеет только награждать, что бы там ни говорили. Оно не может, по природе своей не умеет наказывать. И добру приходится ковать себе зло, чтобы отмахиваться им от врагов, строить зло, чтобы оградить им неугодных, лепить зло, чтобы пугать им подчиненных. И я честно работал, и добрые люди попадали наверх, а злые — ко мне. И я бы не смог придумать системы лучше, чем эта.
— Одного я не понимаю, — сказал шарфу Ариман Владимирович, — зачем устроили всю эту канитель с моей отставкой. Кому я вдруг помешал, а?
Шарф опустил голову на аримановы колени и задремал. Зачем же я согласился тебя взять, подумал Ариман Владимирович, поглаживая блестящие складки шарфа. Я же не собирался тебя использовать.
Женя и Всеволод спали, ровно дыша. Теперь, когда они не дергались и молчали, воздуха им всем должно было хватить.
— Эй, — тихо позвал Самаэль, — ты не поверишь, но ты мне нужна.
Шарф шевельнулся, не слишком-то веря.
— Я и сам не думал, — сказал Ариман Владимирович. — И после всего, что я видел там… Ты была для меня ядом, не спасением. Я знал, что никогда не попрошу у тебя помощи, но вот, понимаешь, сегодня…
Шарф поднялся и мелко задрожал.
— Радуешься… Сколько людей мечтали о тебе… сколько времени прошло с тех пор, как ты стала моим собственным вечным напоминанием о… — он потер переносицу. — Смешно, правда: призванная для забвения, ты сохраняла мне память. Никто не спросил, а хочешь ли ты быть со мной? Не скучаешь ли ты по своей реке, по своей сестре, по своим делам, которые даже я представить не могу? Возвращайся к ним, — Ариман Владимирович поднял шарф на вытянутой руке. — Я больше не стану тебя держать. Еще немного, и все закончится… — он, скрипя и чертыхаясь, забрался на неровно стоящий стол. — Вот это — потолок. Поработай с ним, будь добра. И уходи. За ним твой мир.
Шарф трясся, и мелкие сгустки света кружили вокруг него. Была ли это благодарность или просто предвкушение близкой работы и освобождения, Самаэль не знал. Поняв, что шарф уже не касается его рук, он слез со стола и стал ждать.
По потолку пробежали волны. Трудно сказать, что происходило в таких случаях с человеком, но потолок лишался памяти своеобразно. Рифленый пластик, все слабее освещаемый дохнущей лампой, местами помутнел, сквозь него проступила древесная кора, темно-зеленые разводы малахита, электрические провода, комья земли, чей-то густой мех, персидский ковер, гигантский глаз, зеркало, тысяча спичек, превращающихся в гусениц шелкопряда… Крыша «Респекта» уходила в небытие, все с большим облегчением отдавая остатки воспоминаний, растворяясь в счастливом, освободительном зелье, которое шарф в изрядном количестве скопил за годы ожидания.
За потолком, по расчетам Аримана Владимировича, сейчас находилось Второе небо, или, как его теперь модно было называть, Вторая оболочка пространства, та самая, где должна была закончиться долгая даже по меркам высоких сфер, жизнь Самаэля.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
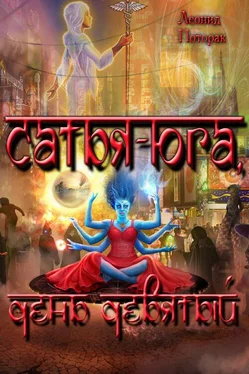
![Леонид Поторак - Странные сближения [Полная версия]](/books/34950/leonid-potorak-strannye-sblizheniya-polnaya-versiya-thumb.webp)