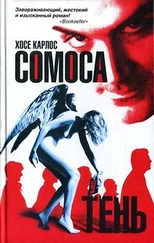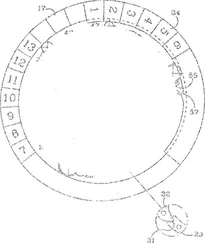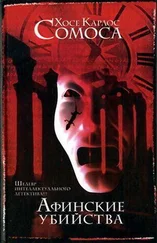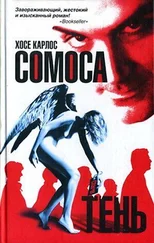Я стала серьезной, но взгляд не отвела. Потом глубоко вздохнула и договорила:
– Я пришла сказать, что выбрала тебя.
Двумя неделями раньше я и представить себе не могла, что буду это говорить. Но, конечно же, тогда мне было о чем подумать. А ребята из службы безопасности нашего отдела позаботились, чтобы думать для меня стало нелегкой задачей. Они вломились на сцену поместья в ту трагическую ночь, которую устроила Клаудия, обвешанные той бредятиной, которую используют против опасных наживок, – преобразователями изображения и звукофильтрующими устройствами, а также подкожными пистолетами, – хотя и знали, что качественная маска способна дать сто очков вперед этим идиотским средствам защиты. Я уже потеряла сознание – сразу после того, как моя сестра выстрелила в Клаудию, но эти ребята все равно не преминули «помочь» мне – без лишних колебаний запустили мне в горло дротик с отключающим сознание средством.
А после этого занавеса – «мастерская». Обычные медбратья, обычный надзор. Или, возможно, чуть более строгий, чем обычно.
Я часами лежала, чувствуя себя так, словно даже мое дыхание может заразить любого, кто приблизится, вирусом, вызывающим кровотечение. Меня держали за полупрозрачными занавесками и разглядывали из-за них как до сих пор не каталогизированное животное. Меня переодевали, ничего заранее не сообщая, иногда вообще оставляли голой по нескольку минут, с мыслью, что так я не смогу подготовить ни одной маски, требующей какого-никакого специального костюма. Стоит ли говорить, что мои настойчивые вопросы полностью игнорировали, пока наконец не появился Тот, Кто Отвечает – тип в рубашке, без пиджака, в очках и с таким выражением лица, что сразу стало понятно: он гораздо больше времени смотрит в монитор, чем на людей. Он явился в окружении службы охраны.
– Ваша сестра вне опасности, – заявил он.
Но я спрашивала и о Мигеле, и молчание по поводу его состояния пронеслось ледяным ветерком по моему затылку.
Чиновник скрестил руки на груди и продолжил:
– Ларедо потерял много крови, сейчас он в отделении интенсивной терапии. Пуля не задела ни сердце, ни основные кровеносные сосуды, однако прошла через верхушку левого легкого. Прогноз – сдержанно-хороший.
Услышать, что Мигель жив, было таким облегчением, что мне захотелось подпрыгнуть. Но я даже не улыбнулась, верная своему воспитанию наживки. Нередки случаи, когда из-за несвоевременного выражения эмоций можно потерять все, это я знала очень хорошо.
В обмен на эту информацию я должна была поделиться своей. Я говорила о Клаудии, о Женсе, о своих подозрениях относительно того, что они сделали в прошлом, и о том, что они делали у меня на глазах. Говорила о Йорике – о том, что, по-моему, он собой представляет и какой эффект производит. Последняя часть моих показаний была особенно детальной, потому что, за исключением Веры и меня, все, кому довелось испытать на себе ее воздействие или кто умел ее изображать, в том числе Клаудия и Женс, унесли эту тайну в могилу. Пока я говорила, человек этот только слушал и кивал. Никто ничего не записывал, и я подумала: если бы мои мысли были образами, они повесили бы дополнительную камеру – фиксировать образы.
И когда этот инквизиторский допрос завершился, мне позволили увидеть Веру.
Она была в такой же палате, как моя, но с охранниками при входе. Понятное дело, это не ее охраняли от возможных враждебных действий, а всех остальных защищали от нее. Она была простая девчонка, или, по крайней мере, такой казалась, но ею овладели при помощи Йорика, а Йорик, совершенно очевидно, пока сбивал их с толку. Кроме того, порой неясно, когда именно маска утрачивает свою эффективность, хотя она и может быть повторена вновь. Как бы там ни было, меня пропустили – и она была там. Глаза в пол, смиренная, вся какая-то маленькая, внешне совсем неопасная.
Я на нее взглянула, и у меня возникло странное ощущение «на грани всего сразу» – радости и печали, доверия и сомнения, умиротворенности и тревоги. Этим ощущением, по мысли Женса, пронизаны последние творения Шекспира, где автор старался преодолеть границы между театром и литературой. В частности, мне вспомнилась последняя его пьеса, в которой заметны эти попытки, написанная в соавторстве с Флетчером, – «Два знатных родича». Вот так и мы с Верой – в одинаковых больничных халатах, связанные отдаленным, но все же заметным физическим сходством: знатные, или же незнатные, родичи, встретившиеся практически впервые после долгой разлуки.
Читать дальше