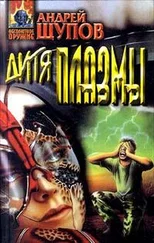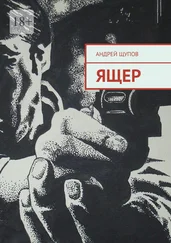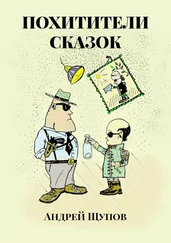— Молчуны — те же изгои, — буркнул я. — А нужны ли изгои человечеству?
— Без сомнения нужны! А как же!.. Хотя, что касается человечества в целом… — Виссарион потер сухонький подбородок. — В человечестве, Павел, я тоже, наверное, разуверился. В разуме человеческом разуверился. Разум и сердце индивида — это да, это я чувствую, а нечто коллективное? Не знаю… Коллективный гомеостазис — не есть в полном смысле здоровье, потому что всегда базируется на отторжении незнакомого. Желтую моль на темном шерстяном костюме без сожаления растирают в пыль. Это тоже пример гомеостазиса.
— Ты предпочел бы хаос и изъеденные в дыры костюмы?
— Не знаю, — Виссарион покачал головой. — Если бы взамен хаоса нам предложили бы что-то по-настоящему новое и светлое… Но ведь этого нет. Хаос подменяют либо откровенной диктатурой, либо принципами демократического централизма.
— Это плохо?
— Видишь ли… Принципов придумано столь великое множество, что все просто вязнет и тонет в словах. Нам бы помолчать, а мы шумим и болтаем. Нам бы поглядеть вокруг, под ноги или вверх, а мы безрассудно тратим и тратим энергию на сиюминутное. — Пасечник смерил меня долгим взглядом, невнятно пробормотал: — Мы безостановочно шевелимся, понимаешь? Словно голодные черви. Пропускаем через себя землю, роем тоннели, ползем, не останавливаясь. Но ведь люди — не черви! Если есть сердце, если есть осознанная боль, значит, есть и смысл.
— Какой еще, к дьяволу, смысл?
— Смысл каждой конкретной жизни, — наставительно произнес Виссарион. — Робот, который дорастает до понимания, что он робот, закономерно должен приходить к выводу, что где-то поблизости живет и создатель.
— Ага, что-то вроде главного робототехника!
— Можно сказать и так.
— Странные у тебя рассуждения!
— Обыкновенные. Странные они для тебя, Ящер… — последнее слово он произнес медленно, словно пробуя на вкус и заново осмысливая мое новое имя. Некстати вспомнилось, как некогда впервые меня так назвала Елена.
— Хочешь сказать, что я ни черта не понимаю в твоей дурацкой философии?
— Понять и принять — разные вещи. Первое нам порой удается, но со вторым сложностей неизмеримо больше. А ведь может статься, что принять этот мир — таким, каков он есть, является главным нашим испытанием. Не просто понять, а именно принять! Умом и сердцем.
— Ты это испытание, судя по всему, выдержал с успехом! — я хмыкнул.
Виссарион укоризненно покачал головой.
— Видишь? Ты и сейчас, тридцать три раза укушенный, зажатый в угол, продолжаешь нападать. Хотя и знаешь, что никакого двойного смысла в свои слова я не вкладываю. Беда в том, что ты по натуре своей — собственник и хозяин. И потому всегда будешь свергать коллег и соседей. Вроде того подброшенного в чужое гнездо кукушонка. Лишние идеи тебе не нужны, тебя устраивают те, что уже имеются в наличии.
— Может, они устраивают и того, кто создал меня таким? Я говорю о твоем мифическом робототехнике?
И снова Пасечник ответил не сразу. Долго глядел на меня своими серыми глазами. Не рассматривал, не изучал, — просто глядел, словно ждал некоего ответа, запаздывающего прилететь из неведомых глубин мироздания. На короткий миг у меня возникло ощущение, что со мной и впрямь беседует не Виссарион, не описанная им пирамида, а нечто иное, чему этот человек был только посредником, подобием живого ретранслятора. Он хотел ответить и не мог. Ответа не было, и мне почему-то стало страшно. Почти так же страшно, как в тот момент, когда из леса с повешенными братками я угодил в очередную черную расщелину.
Нужный ответ не приходил, и мир по-прежнему был экраном — зыбким, распростертым в пространстве тюлем, на котором крутилось и крутилось бессмысленное кино. Мы не отводили от движущихся фигур взглядов и потому не сомневались в вечности происходящего. Но тюль это всего-навсего тюль, и стоило только на мгновение отвернуться, как вселенная, дрогнув, исчезла. Талая вода смыла остатки лесов и полей, вокруг царственно и пусто распахнулась первозданная мгла. Лишь искорки бутафорских звезд и черный леденящий холод… Спрашивается, что более иллюзорно — крохотный земной шарик или безграничная тьма?
Рассуждения Виссариона неожиданно приблизились вплотную, ожившими тенями задышали в лицо. Я мог бы, наверное, их потрогать, если бы осмелился поднять руку, отважившись ткнуть в ту прореху, из которой они выглядывали. Но мне было по-настоящему страшно…
Как же славно, оказывается, ничего не видеть и не знать! Свалить все на гангрену позеленевших ступней, на галлюцинационный бред. Но что-то продолжало со мной твориться, что-то крайне непривычное. Возможно, подобно Виссариону меня отвлекли от расцвеченного тюля, заставили на миг повернуть голову. И что-то я, должно быть, узрел — что-то такое, чего не положено было видеть рядовому обывателю. Мелькнувший перед глазами образ засел в памяти, и вернуться глазами к привычному стало уже невозможно. Потому и рушился мой город, бурлящими потоками перемешивались далекие времена. Я утерял под ногами дно, и волны несли меня, как винную пробку, вскидывая на гребни и погружая в пенные впадины.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу