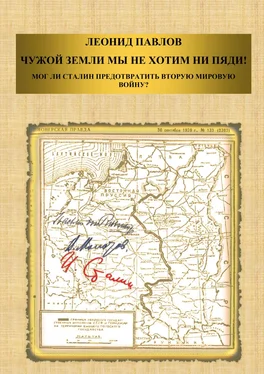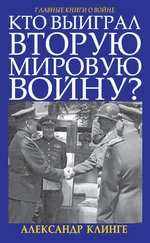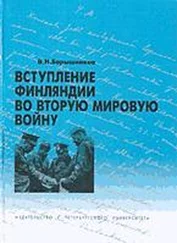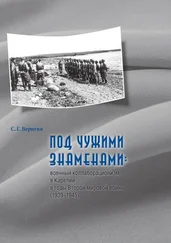11 мая Молотов принял польского посла по его просьбе. Гжибовский извинился за то, что в беседе 8 мая, высказывая свое, в общем, положительное отношение к предложениям Советского правительства, он неточно изложил позицию правительства Польши, и прочитал по записке инструкции, полученные им из Варшавы.
Во-первых, правительство Польши заявило, что инициатива правительства Франции в переговорах о предоставления Польше гарантий безопасности, не соответствует точке зрения польского правительства, которое такого рода переговоры считает возможным вести только само, а французам таких переговоров оно не поручало. Во-вторых, Польша не считает возможным заключение пакта о взаимопомощи с Советским Союзом ввиду практической невозможности оказания помощи Советскому Союзу со стороны Польши, а между тем Польша исходит из того принципа, что пакт о взаимопомощи возможно заключать только на условиях взаимности.
Молотов спросил об отношении Польши к договору между Советским Союзом, Англией и Францией. Посол сказал, что Варшава не может выступать ни за, ни против заключения тройственного пакта о взаимной помощи, поскольку считает это делом самих этих государств. Он уклонился от ответа на уточняющий вопрос, заинтересована ли Польша в таком договоре. На вопрос, заинтересована ли Польша в гарантиях европейским соседям Советского Союза, Гжибовский ответил, что такие гарантии не должны относиться к Польше. Однако он уточнил, что в будущем позиция польского правительства может измениться.
Нарком сделал вывод, что Польша не хочет в данный момент связывать себя каким-либо соглашением с СССР или согласием на его участие в гарантировании Польши, но не исключает этого на будущее 369 .
В основе такого негативного отношения к советским предложениям лежали давняя неприязнь, вытекающая из всей истории польско-русских отношений, а также значительные разногласия по вопросу территорий, которые Польша захватила в ходе войны 1920 года, вероломно продвинувшись восточнее «линии Керзона», определявшей западные границы РСФСР.
Но главным было то, что заключение любого трехстороннего договора о военной помощи против Германии неизбежно выдвигало на первый план вопрос: как Советский Союз, не имея общей границы с Германией, сможет оказать военную помощь Франции, если последняя подвергнется агрессии со стороны Германии? Для поляков этот вопрос имел первостепенное значение, поскольку Кремль уже выдвигал требования предоставить коридоры для прохода Красной Армии через польскую территорию с целью оказания военной помощи Чехословакии в сентябре 1938 года, хотя прямо с этим вопросом Москва к польскому правительству не обращалась. Вопрос, по мнению Кремля, должны были решать французы, у которых был договор о взаимопомощи с Советским Союзом. Или чехи, у которых был аналогичный договор и с Францией, и с СССР.
Поляки не знали, кого им больше бояться – немцев или русских. Польское правительство полагало, что требование коридоров – это лишь повод для того, чтобы зайти на территорию Польши и остаться там надолго, даже если войны не будет. Боевое ядро дивизии, армии, фронта, как известно, без тылового обеспечения существовать не может: и снаряды, и еду нужно куда-то привезти и где-то разгрузить, причем желательно, поближе к театру военных действий. Возить все необходимое для жизни и боя за сотни и тысячи километров, и воевать «с колес» – значит заранее обречь военную операцию на провал. Чтобы провала избежать, существует тыл вооруженных сил. Для размещения тыловых подразделений и использования местной материально-технической базы, фронту определялся тыловой район, глубина которого в Красной Армии доходила до 500 км. Для обеспечения успешного ведения боевых действий фронтовые склады должны были размещаться вблизи железнодорожных станций 370 .
Такой подход к организации тыла, много раз подтверждавший свою правильность в ходе Великой Отечественной войны, при нахождении на территории другого государства означал не только занятие больших территорий войсками, но и взятие под контроль всех путей сообщения страны, железнодорожных станций, морских и речных портов, а также каналов связи. Я уже не говорю о том, что активное использование авиации требовало бы использования советскими военно-воздушными силами существующих и строительства на территории Польши новых аэродромов – неэффективно летать с советской территории в Германию, до которой 500 километров, то есть, «холостой прогон» самолета составлял бы 1000 километров. Для бомбардировщика это означало бы снижение полезной бомбовой нагрузки, а истребителям не хватило бы радиуса действия без промежуточной заправки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу