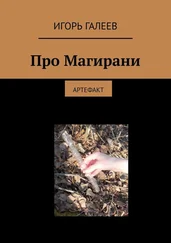Но еще меньше людей знало о том, что у Слепого Сторожа Пристани был дополнительный шанс. Про это как-то не принято говорить, понимаете? К тому же в том времени и в том месте наличие дополнительного шанса считалось признаком вырождения, чем-то вроде болезни крови или врожденного уродства. В общем, Слепой Сторож Пристани не особенно этот факт афишировал, хотя на медицинском осмотре при приеме на работу был вынужден о нем сообщить. На него посмотрели косо, но тем не менее взяли.
Так вот, у Слепого Сторожа Пристани были плохие отношения с его дополнительным шансом. Они все время ссорились, иногда не разговаривали месяцами. Старались все делать назло друг другу, словно престарелые, до ужаса надоевшие друг другу супруги. И как-то раз дошло до того, что Слепой Сторож Пристани сбросился с крыши пятиэтажки — только чтобы избавиться от надоевшего дополнительного шанса. А на следующую ночь Слепого Сторожа Пристани сожрала Большая Мурена. Мораль проста: никогда не знаешь, что тебя ждет, понимаете? А раз так — семь раз отмерь, один раз — сбрасывайся…
Но Сторож не погиб. Большая Мурена просто срыгнула его на пристань и сказала, что с этого момента не будет у него ни прошлого, ни будущего. Только ожидание на пустой пристани и слепота. Так и случилось.
— Ну, и к чему ты это рассказал? — спросил я, вминая опаленный фильтр в брюхо пепельницы. — То есть история занятная, не спорю, но ты же не просто так ее рассказал, да?
— Вроде того, — кивнул Черчилль, вглядываясь в сумерки за окном. Шерсть на его загривке отливала серебром с примесью все той же ржавчины. — Шансом Слепого Сторожа Пристани был я. Это от меня он избавился тогда. Я пытался помочь ему. Так же, как и тебе. Но дело, если честно, не в этом. Просто мне нужно было тебе об этом рассказать, а тебе не стоит забывать про Слепого Сторожа.
— Ах, ну да, мораль всегда полезна и так далее.
— Нет. Мне плевать, запомнишь ты, о чем эта история, или нет. Главное, просто помни про Слепого Сторожа. Когда-нибудь тебе понадобится помощь, и…
Если бы я знал в тот момент, о чем говорит Черчилль… Но я даже не догадывался и потому понял его по-своему.
— Черчилль… Понимаешь,я вовсе неуверен,что мне нужна помощь… Но и расставаться с тобой я не собираюсь. Кто будет держать меня в курьерах, если я останусь без тебя? Но я отнюдь не воспринимаю тебя как возможность…
— А разве ты можешь знать наперед? — перебил меня Черчилль. — Разве ты умнее Слепого Сторожа Пристани? Как бы мы ни относились друг к другу, что бы ты ни говорил, но я именно возможность. А все остальное — довесок за счет заведения.
— И все равно ты напрасно читаешь мне мораль. И если я что ляпну сгоряча, не обращай внимания. Мы же вроде как друзья…
Мы помолчали. Я достал еще одну сигарету, долго крутил в пальцах. Курить не хотелось, возвращаться в купе — тем более, а стоять просто так… Ну, вы понимаете. Есть такая тишина — пустая и гулкая, как барабан. Поэтому я все-таки закурил.
— Сколько у тебя жизней, Черчилль?
— Как обычно, девять. А почему ты спросил?
— Я имел в виду… Ну… То есть сколько осталось?
Вообще-то задавать такие вопросы неправильно. Потому что это нам, людям, смерть видится чем-то нереальным, чем-то, во что трудно поверить применительно к собственной шкуре. А они, наши дополнительные шансы, умирают по девять раз. И помнят о каждом. Для них смерть — это не финал существования, а его составляющая. Им приходится с этим мириться, но говорить об этом они не любят.
— Я умирал восемь раз, — помолчав, ответил Черчилль (а я уже начал надеяться, что он промолчит), — осталась последняя попытка. Так что, — он усмехнулся, пожал плечами и вскинул хвост трубой, — так что в чем-то я теперь — человек. Почти. А ты ответишь на мой вопрос?
— А ты задал мне вопрос? — удивился я.
— Нет, но задам.
— Валяй.
Дверь с шумом распахнулась, и влетело трое подростков в спортивных костюмах. Через мгновение тамбур наполнился шумом, матом, дымом и фразами: «Соловьева — сука, но чикса клевая, не дает ни х..я пока, ну, х..ли, время есть, подождем…» Подростки демонстративно сплевывали на пол и стены тамбура, с вызовом поглядывая на меня. Я мог бы заставить их слизать собственные плевки, пройти по вагону голыми и почистить обувь всем пассажирам. Любой курьер мог бы заставить этих молодых ублюдков раз и навсегда забыть о вызывающих взглядах. Но ни один курьер не стал бы делать это без крайней необходимости, если он возвращается из трипа и везет на корке мозга слишком много воспоминаний об адресате. У курьеров масса неписаных законов, а моя гордость и чувство самоуважения не страдают от неуемной черной энергии, характерной для подростков. В Библии сказано: мир зол в юности своей. Или что-то вроде того. Это очень точное замечание. Поэтому я терпеливо ждал, когда стадо молодое и знакомое свалит из тамбура. Черчилль молчал. Я тоже. Минут через пять подростки дружно сплюнули сквозь зубы и, бросив на меня последние взгляды, переполненные робкой надежды на потасовку в крошечном тамбуре, скрылись в туалетном предбаннике… Я пожалел, что не ношу с собой хозяйственный инвентарь, — в задымленном пространстве можно было без особого труда развесить десяток-другой топоров.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
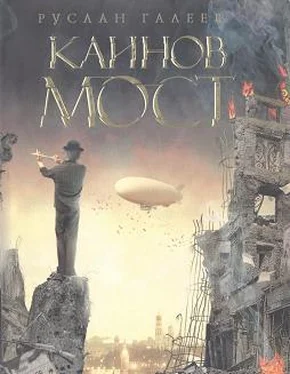
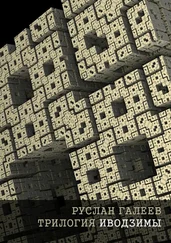



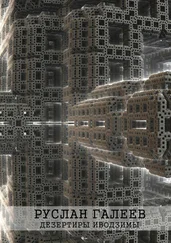

![Фаниль Галеев - О чем молчали звезды [litres]](/books/396535/fanil-galeev-o-chem-molchali-zvezdy-litres-thumb.webp)