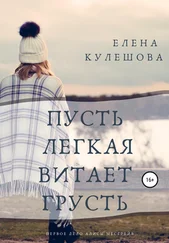Мишталю Анатолию,
имеющему храбрость
быть моим мужем.
«Всё есть всё».
Миша Мишталь.
Тяжёлая взвесь белой ночи цвета и запаха несвежих простыней, влажная и душная, как опостылевшие объятия, обволакивала, проникала всюду, парализовывала, отражала меня и оттого была неприятна. Никаких возвышенных мыслей не рождалось внутри, и невозможно было найти достойных слов описать это возлюбленное всеми явление природы, характерное для Петербурга в середине июня, никаких желаний, никаких чувств, кроме головной боли и жажды. Взгляд рылся в сумерках углов неприбранной равнодушной комнаты, натыкаясь на мебельные тела, грязную посуду, разбросанные повсюду, исписанные какой–то чушью листы примятой бумаги. Наконец это вызвало тошнотворное головокружение и усилило великую сушь истерзанного накануне нутра. Две на четверть недопитые бутылки сухого красного пыльно и отрешённо поблескивали из–за ножки стола, как будто имели разум и могли понять свою несостоятельность – я никогда не допивала последних глотков – в них нет ничего, кроме паскудной взвеси горьковато–терпкого осадка в подкисающем наполнителе. Неопрятная надменность бутылочного стекла раздражала, но в тоже время побуждала к действию, и за это я была ей благодарна. Требовалось некоторое время и усилие для сборки разбросанного по дивану тела, части которого сопротивлялись согласованности движений. Это злило, но сил придавало.
В аквариумном сумраке коридора неуверенно пошатывался силуэт соседа – вечнонетрезвого Димона.
– Это…. У тебя там…. Это…. Осталось? – органично вписался в блеклое пространство сипловатый голос.
– Да…. Как всегда…. Забирай – я ли сказала, или Димон сам себе ответил, зная, что услышит именно это, по звуку было трудно отличить, а челюсти мои были несколько анестезированы, как перед удалением зуба.
– Ты это…. Куда, это… – по моей просьбе словом «это» сосед мой заменял традиционное бульканье, которое я не выносила ни в каком состоянии. Разница впрочем, не очень велика, но требовать большего смысла не было – Я это…?
– Да. Конечно – челюсти оживали – я же сказала. Забирай. Но пить будешь не у меня. Понял, Димон? Не у меня. Я скоро вернусь.
На самом деле я не имела представления, когда смогу вернуться в тёмно–серое подобие жилища, так и не сумевшего стать домом. Но добавлять к убогому интерьеру храпящую тушу Димона было уже свыше моего равнодушия.
– Димон! У себя.
– Да это… Я, это…, возьму и, это…, к себе.
Героически борясь с притяжением всего находящегося поблизости, Димон с третьей попытки аккуратно вписался в проём непомерно узкой и неустойчивой по его ощущениям двери. Минуты три погремел в моей комнате и вновь возник в коридоре, трепетно прижимая к груди две на четверть недопитые бутылки сухого красного и, на всякий случай, не задавая больше лишних вопросов, стремительно, как мог, проскользнул мимо меня и исчез в провале своих покоев. Я могла быть спокойна за своё обиталище.
Ночь впустила меня как незваного гостя, натужно ощеряясь старческим ртом подворотни. Глотнула и выплюнула в белесое варево улицы.
Изломанный, покрытый шрамами, как шкура доисторического животного, асфальт тротуара, казалось, вздрагивал от прикосновения каблуков, как будто мои шаги приносили ему страдания. Я остановилась, чтобы лучше рассмотреть простёртое подо мной серое чудовище. Мне стало жаль его, лежащего на спине, покрытого с боков разросшейся коростой домов. Я посмотрела вдоль простирания облупившегося брюха, и взгляд мой упёрся в туман, окутавший площадь неподалёку, наткнулся на дрожащий силуэт обелиска, или это был рог на морде спящего третий век дракона. Ощутив всю зыбкость незыблемого, и весьма встревожившись, я поспешила свернуть в боковой проезд к Московскому вокзалу, по какой-то причине открытый этой ночью.
Проведя большую часть жизни в центре города, в бесконечной толпе проспектов, улиц, магазинов, подворотен, коммуналок, я никак не хотела становиться частью этого многокомпонентного студня и всегда искала уединения. Возможно, это кажется странным, но многолюдные суетливые вокзалы мне весьма подходили в качестве убежищ. Всеобщая отрешённость, прощание с прошлым, как с действительностью, общительная замкнутость, ощущение новизны перемен, дороги и ухода от всего в себя.
Мне нравилось, дождавшись отправления какого-нибудь поезда дальнего следования, остаться на перроне.
Читать дальше