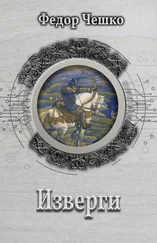Хваленый укромный коридорчик оказался просто-напросто бронеуглеродной трубой — темной, тесной и вонючей. Обивки тут не было никакой, и голые осклизлые стенки превращали малейший шорох в отзвуки недальнего бомбометания. А уж беспрерывный капеж чего-то откуда-то куда-то так и лупил по нервам, корча из себя неумолимо приближающиеся вражьи шаги.
— Что это капает, мазал его мазер? — сипели Матвею в затылок. — Чему тут капать-то?!
— Будем надеяться, что вода. — Матвей закашлялся и толкнул кулаком Крэнгову спину. — Долго еще, ты?!
— Скоро, скоро, — сдавленно бурчал Дикки-бой.
Секунд аж десять брели молча, только кто-то из задних, поскользнувшись, принялся материться старательно хриплым басом.
— Да что ж тут у них ни одного плафона?! — заныли вдруг где-то еще задее матерящегося. — Темно, как в банке с черной икрой. Долго еще?
— Ладно, хватит. Дик, стой. Хватит, сказал! Так… Братья исконные славяне, слушай…
— А Дик Крэнг тоже исконный славянин? — ехидно перебили из темноты.
Дикки-бой дернулся, едва не сшибив Матвея с ног (хорошо еще, что в теснотище сшибаться было некуда):
— Кто там бипает?! В клацало вонтишь?!
— Цыц! — рявкнул Матвей, с трудом восстанавливая равновесие. — Дик Крэнг признан почетным исконным славянином, поняли? Ввиду особых заср… этих… заслуг! Слушайте дальше. Мне удалось завладеть деструктором. — Он вытащил из-за пояса упомянутый прибор и вскинул его над головой, словно бы остальные могли что-то рассмотреть в непрошибаемом мраке. — Нужно решить, как использовать это грозное оружие против подлых конфеде…
С оглушительным, душу выворачивающим визгом прямо над Матвеевой головой прорезался и лихо пошел в рост ослепительный прямоугольник.
— Эт-то еще что? — осведомился прямоугольник голосом Матвеевого отца. — Матвейка, и ты тут? Вместо школы водишь оглоедов по норам? Нормальные дети на людей учатся, а ты на крысу? — «Глас с небеси» пресекся на миг: Молчанов-старший разглядел недоспрятанный за сыновью спину деструктор. — Еще и макияжницу материну новую, молекулярную сдемократил! Мать исплакалась, думает, потеряла, а ты… И достанется же тебе!
А мерзкий визг распахивающегося люка добирал, добирал пронзительности, все плотней нанизывая отцовские слова на себя и одно на другое, и уже невозможно было ничего разобрать в получающемся беспрерывье, кроме интонации — по-всегдашнему усталой, снисходительно-брезгливой, знакомой до обморочной ломоты под сердцем…
Матвей забарахтался в своем спальном полугробу, сел, тупо уставился на слепнущую панель гипнопассиватора. Ненавистный прибор позуммерил еще секунду-другую и, наконец, заткнулся.
Ненавистный прибор, черт бы его заглодал…
И черт бы заглодал того ненавистного кретина, который решил, будто в условиях сопространственного перелета для человека нормально именно восемь с половиной часов сна. Восемь с половиной часов и ни мгновением больше. Сволочи…
Всего нескольких каких-то секунд, самой раз-ничтожной чути не хватило, чтоб там, в ослепительном прямоугольнике над головой, разгляделось лицо отца. Уже ведь затемнело что-то, сгущаясь в золотистом этом сиянии, — и на тебе…
Матвей подтянул колени к подбородку, обхватил их руками и плотно-плотно зажмурился. Нет. Так и осталось — ослепительный квадрат и как бы занавешенное им размытое пятно черноты. Сволочи… Первый раз за все эти суетные круговертные годы — и не дали увидеть. Чтоб вам, сволочам, всю вашу сволочную жизнь как мне нынче!
Господи, как же его хоть звали? Уже и не вспоминается… не вспоминается, потому что толком-то никогда и не зналось. Тебя ведь только посконщики на Новом Эдеме величали по отчеству — и то по вымышленному. А имени отца ты просто никогда не слыхал. Соседи звали его по фамилии, как всех и все; друзья не звали никак, потому что не было у него никаких друзей; бабушка — мамина мать — за глаза цедила неприязненно: «этот… твой…», а в глаза… нет, не вспомнить, но тоже не по-людски как-то.
А мама звала отцом.
«Отец, да глянь, как этот вражонок извалялся опять! Ну сил же на него моих больше нет, хоть раз же ты его изругай!»
Вялый поворот головы, равнодушно-усталый взгляд из-под приопущенных век… «Матвейка, я тебя ругаю». И все.
И говорил, и ходил, и вообще жил он будто спросонок; и кожа висела на его непомерном ссутуленном костяке такими же дряблыми складками, как клееный-переклееный летный комбинезон на плечах — вроде бы и широких, но давно уже обезвольневших, обессилевших…
Читать дальше



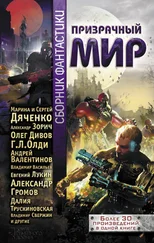



![Федор Чешко - Ржавое зарево [litres]](/books/399417/fedor-cheshko-rzhavoe-zarevo-litres-thumb.webp)