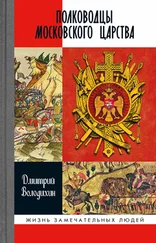Бог весть, почему Галина Степановна уродовала свои молодые и еще не лишенные способности функционировать губы отвратительно яркой старушечьей помадой. Задавая чайнику водяной корм, она на время обеда стирала помаду и одним этим улучшала внешний вид с семи до шести; зато прочие шесть оставались в безнадежной незыблемости. Вечная розовая кофта, вечная темная, бесформенная юбка, которую уста не осмелятся поименовать миди, поскольку никакое это не миди, а просто старая юбка, утюгу не подруга; полусапожки светло-коричневой не в тон юбке кожи с металлическими квадратиками, которые должны что-то украсить, но уже не способны выполнить эту работу, поскольку блестящее желтое покрытие с них в основном сошло, позорно обнажив матовый белый оригинал; коротко подстриженные (чтобы не возиться), иногда подсаленные и небрежно покинутые на голове волосы. Странно, странно видеть, как женщина бредет по жизни, утратив интерес к своему пленительному саду, хотя кожа ее свежа, тело не расплылось и есть твердое десятилетие в резерве. Лишь глаза излучают женскую смерть. Не потому уродует Галина Степановна свои губки кошмарной кровоцветной замазкой, не потому она не желает подыскать замену сапогам-ветеранам, что нет у нее денег, времени или бытового мужества ходить по магазинам и выбирать, выбирать, выбирать... Просто путь ее окончен. В ее жизни уже было все, что положено: школа, работа, немного влюбленности, покладистый и почти непьющий муж, двое детей. Долг ее исполнен, осталось лишь детей поднять и научить жизни. Чтобы не забывались. Работать, конечно, приходится, но по нынешним временам, везде, знаете, ворье, а муж, Василий Васильевич, он такой беззащитный, такой нелепый и бестолковый, что где ему с такими пронырами заработать как следует.
Или, вернее, Галина Степановна уверена в том, что путь ее окончен и нет на свете магии, которая победила бы самостоятельно наколдованную преждевременную старость.
Интуиция подсказывала Игорю, что через год или два у Галины Степановны будет нехорошо пахнуть изо рта, а может быть, и от всего тела. Во всяком случае, уже сейчас она жевала правой половиной рта, стараясь не попасть колбасой, а особенно неподатливой хлебной корочкой на дуплистые зубы с другой стороны. Всяческие советы озаботиться-пломбами-а-то-будет-хуже она встречала пожатием плеч: какое, мол, там хождение по врачам, семейные, мол, дела, недосуг.
Даже просто смотреть на Галину Степановну всегда было как-то заразно. Чем дольше смотришь, тем беспощаднее нарастает необоримое внутреннее утомление. Силы уходят, как кровь из раненого, который потерял сознание и до сих пор не найден санитарами.
Что уж тут такого омерзительного в неаккуратно одетом человеке, который рвет копченую колбасу правой половиной рта, а через год или два будет дурно пахнуть? Для подавляющего большинства современных людей ничего неприятного в подобном ландшафте нет. Лишь некоторые странные личности, вроде Игоря, выходят за дверь в самом начале зрелищного мероприятия. Кто объяснит, из-за чего они чувствуют в безвестных наборщицах мрачную невидимую силу, превращающую безвестных наборщиц чуть ли не в самых влиятельных лиц, главных законодателей, исполнителей и судей? Впрочем, и эти диковинно устроенные люди оформляют свой рывок в направлении отсутствия как медленный и нетревожный, желают приятного аппетита, стараются не вызвать у ближних подозрений в избыточной брезгливости. Ушел человек - и ушел, привык, стало быть, к общепиту...
13.00-14.00
Образ жизни, который вел Игорь, кое-что позволял и не менее того требовал. Позволялось истратить на обед 80-160 рублей. Не позволялось истратить 200 рублей, ресторанчик, даже самый дешевый, отпадал. Требовалось не носить на работу баночек со снедью из дому; компьютер будет морщиться, морщиться от такого плебейского соседства, вся кристальная зона пропахнет кухонными испражнениями. Или вот еще, столовский вариант: есть такое заведение через квартал - изрезанный пластик столов, густо хлорированный линолеум, курица с душком, какая-то тотальная липкость, липнет даже побелка со стен в коридорчике, дверь в кухонный цех вечно распахнута, и оттуда, как из верхних кругов преисподней, веет горячим влажным муссоном в мозаиках металлических грохотов. Восемь. Господи, спаси и сохрани. Оставалось кафе. Дорогое столичное кафе, лучше всего что-то вроде погребка, трудолюбиво извлеченного из прежнего сырого полуподвала (тоже своего рода магия: помещение боится одичать, пока в нем живут люди - накажут!).
Читать дальше