«Ах, Никифороф! – хотелось заорать мне. – Ты всегда слишком легко доставалась всем». – Может быть, и легко, только я отдавала свое тело и свою душу. И не пользовалась чужими, как власть, что столетиями уничтожала и уничтожает тела и души сограждан все изощрённей и жестче, и где придется….
– Нет! – остановил мои мысли Травин, не поднимая головы. – Заблуждаешься! И заблуждения твои неустойчивы. И правды в них нет. Это я виноват. Мы все виноваты. Ты тоже. И не думай, что Дарвин, которая с удовольствием играет во фронду, пока ей позволяют, исключение.
Я представила Дарвин, что была в оппозиции к любой власти, хоть не выходила на главную площадь с плакатиком, не объявляла голодовку, не участвовала даже в молчаливых беззубых шествиях.
– «Система власти прогнила больше, чем полностью, – говорила Дарвин. – Это уже давно очевидный факт. Не надо справедливости, в которой из всех чувств, больше всего зависти. Народонаселению достаточно одной свободы. А с власти хватит того, что держу камень за пазухой и фигу в кармане».
Она улыбалась и искала рецепт спасения страны. И доводила до абсурдного завершения безумные старания самой власти, усердие ТиТиПи, рвение коллег-патриотов и не коллег, по отбиранию свобод, переделке жизни поданных, науки, политики, про которую знала только плохое. Ей казалось, что, лишь продолжая это безумие, можно продемонстрировать бессмысленность подобных усилий. И только после взрыва, а может, после центрифуги, я стала понимать… нет, начала находить логику в ее поступках. А когда поняла, все стало на свои места. Одно смущало: Дарвин в своей стратегии не учитывала, что задроченные граждане страны, в которой столетиями не было частной собственности, не в состоянии отличить свободу от несвободы, что общество чрезвычайно толерантно к нищенскому уровню жизни, что…
А трезвый Травин гнал свое:
– Мы позволяем власти вести себя с нами так, как она ведет. – Он говорил все увереннее. – Гнобить нас, оцифровывать, с каждым днем наглее и жестче, бездарнее и бесстрашнее. А в отместку поданные любят власть еще сильнее. Может быть, из-за того, что поверили, будто они – великий народ…
«Он опять примется за лабораторный спирт или, как Лиза, совершит суицид, если встану сейчас, скажу правду и уйду», – подумала я. И принялась стягивать через голову сарафан…
Мы сидели в удобных кожаных креслах со стегаными спинками за длинным прямоугольным столом хорошего дерева в библиотеке загородного дома ТиТиПи. И молча, вот уже час или два, глазели на Изделие, которое лежало на большом кузнецовском блюде тонкого фарфора. Это был округлый предмет с неровной шероховатой поверхностью серо-коричневого цвета. Размером и формой с большую неровную картофелину, предмет этот походил… он не походил ни на что земное. И к тому же излучал умиротворенность, как отец Сергий.
Тихон встал. Осторожно, будто боясь обжечься, взял в руки шар и несильно подбросил. Нам показалось, что шар невесом: так медленно он взлетел, завис на мгновение и также медленно опустился в Тихонову ладонь.
– Что скажешь, Никифороф? – обратился он ко мне. Вопрос был чисто риторическим. Однако я также идиотски-риторически ответила:
– Это – тот контейнер из взорвавшейся «Барселоны», из-за которого вы…
И сразу отреагировала Дарвин:
– Не приставай к ней с расспросами! – И подернула плечом. Ее начинало раздражать внимание, которое Тихон выказывал мне после центрифуги.
– У твоей лаборантки светлая голова.
– Введи ее в ученый совет.
– Введу, если дашь ей должность младшего научного сотрудника.
Дарвин не стала отвечать. А я, уже в который раз, дивилась ее упорному нежеланию повышать мой институтский статус.
– Вам, девочки, удалось получить поразительный по свойствам материал. Прочный и легкий. Почти невесомый. Ничего подобного на земле еще не было. Представьте, если делать из него летательные аппараты, автомобили… – Величественный и элегантный, похожий на постаревшего актера провинциального театра, ТиТиПи сурово впаривал нам, поглядывая на артефакт:
– Науке известны случаи, когда ученые, идущие к заданной цели, неожиданно получали результат, настолько превосходящий их ожидания и отличающийся от заданного, что его при всем желании нельзя было назвать достигнутой целью. Так было с открытием радиоактивности супругами Кюри. Так неряха Флеминг, никогда не мывший лабораторную посуду, открыл пенициллин, а Колумб, отправившийся за пряностями в Индию и Китай, открыл Америку.
Читать дальше
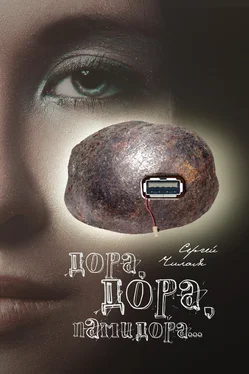
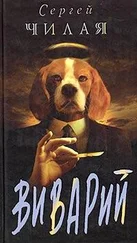
![Дора Кастельянос - Лирика [Созвездие лиры - Избранные страницы латиноамериканской лирики]](/books/83981/dora-kastelyanos-lirika-sozvezdie-liry-izbrannye-thumb.webp)

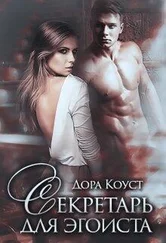


![Дора Коуст - Секретарь для злодея [СИ litres]](/books/397650/dora-koust-sekretar-dlya-zlodeya-91-si-litres-thumb.webp)


