А Зина продолжал неправильно питаться алкоголем и пахнул по утрам старым спиртом и биглями. Я держала его то за сына, которого не было, то за несуществующего отца. И питала лишь одну безумную, лишенную чувственности, литературную страсть, сродни той, что испытывают фанатичные монашки к скульптурам святых, затирая до блеска гениталии из бронзы, в надежде, что случится чудо и у непорочного чувака случится эрекция. Только твит Фрейда, что все процессы по мере нарастания эротизируются, не работал и не приносил облегчения. А Зина не поводил глазом из-за пролитого. Вставал. Доставал из бикса толстую марлевую салфетку и так тщательно вытирал стол, будто сушил брюшную полость от скопившейся крови.
– Как вам удается так много сказать, не говоря ни слова? – старалась подмазаться я.
– Тебя это беспокоит?
– Оскорбляет.
Я влюбилась в него с первого дня службы в Лэбе, когда увидела в одной из операционных. В стерильном белье, не отличимый от других, разве что ниже ростом, он стоял у стола, погрузив руки в грудную клетку бигля. А мне показалось, что, оставив бигля, подошел ко мне. Обнял. И дальше мы вместе наблюдали, как мастерски он продолжает операцию. Я знала, что это невозможно. Но так хотелось невозможного.
В какой-то момент Зина поднял голову и увидел, что стою в дверях. Долго смотрел, не узнавая, а потом неожиданно напустился на операционную сестру. И кричал что-то про посторонних, про стерильность, про дисциплину и какую-то хрень еще. Будто претендовал на тринадцатую зарплату. А может, отбивался от неминучей беды, приближение которой предрекала своим появлением.
Я онемела. Не могла ничего сказать в ответ. Лишь сопротивлялась отчаянно, когда санитарка выталкивала меня за дверь, будто навсегда выставляла из института, отдирая от чего-то таинственного, к которому вдруг прикоснулась глазами. Смотрела назад, стараясь разглядеть лицо под маской. И не могла. И влюблялась еще сильнее. И парилась, проходя по коридору. И понимала, что это мой косяк. Что заболеваю им не из-за индивидуальной предрасположенности, а потому как заразилась от него особо опасной инфекцией, вроде сибирской язвы или чумы, которая настигла меня так внезапно, как может застать человека врасплох долгожданный телефонный звонок. Однако не сожалела, что не успела подготовиться. Готовься – не готовься, конец всегда один: такая болезнь бурно прогрессирует и заводит неведомо куда. Как биолог с красным дипломом, я знала, куда…
Иногда мне казалось, что смурной, сильно пьяный Зиновий чувствует мое состояние не хуже маленьких биглей. Он поднимал невидящие глаза, прижимал палец к губам и, чуть покачивая головой, улыбался, будто говорил: «Не дури, чува!» И я не дурила. Но извечное женское любопытство, а может, совсем не женское, постепенно превращало меня в сотрудника нелюбимого фсб. И толкало на расследования, как в биологии, до которой изредка допускала Дарвин.
– У тебя из-за большого клитора почти мужские мозги, Никифороф, – говорила она, загадочно улыбаясь. – В науке это очень важно. Не меньше, чем в поэзии. Поработай еще немного простым лаборантом.
И я продолжала мыть полы в помещениях Лэба. Настраивать аппаратуру. Таскать из институтской аптеки ящики с медикаментами для оперированных биглей. Кормить их. Редактировать статьи младших научных сотрудников и старших тоже. Проводить исследования in vitro с композициями консервирующих растворов. Диапазон моих функций варьировал от прав санитарки до обязанностей старшего научного сотрудника и секретаря Дарвин.
– Давайте сделаем паузу в исследованиях, – предложила я как-то Дарвин.
– Идея не заслуживает аплодисментов, – сказала Дарвин и тут же согласилась: – Давай! – И так обрадовалась, будто выиграла у меня партию в теннис. – Собирай челядь, Никифороф!
– Мы пытаемся структурировать воду, вводя в нее всевозможные добавки, – сказала Дарвин собравшейся публике. Вид у нее был совсем не научный. И публика понимала это, и смотрела с восхищением и нескрываемым желанием, как смотрят на нее всегда. – Мы так стараемся, словно хотим отмыть в сильный мороз водой лобовое стекло автомобиля. Только одного старания мало.
Мне тоже порой казалось, что усилия челяди больше направлены на затягивание времени комфортного проживания в науке, чем установление истины. Но публика оживилась. Принялась выкрикивать с мест разное. Больше про лженауку, про чудеса, которые происходят крайне редко. И что не следует подвергать чудеса сомнению, когда они случаются. Дарвин услышала и сказала:
Читать дальше
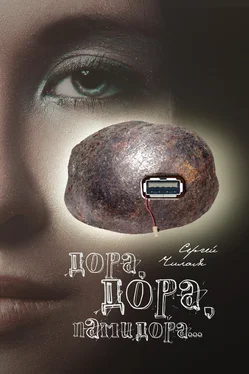
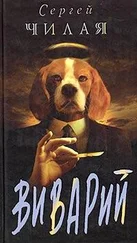
![Дора Кастельянос - Лирика [Созвездие лиры - Избранные страницы латиноамериканской лирики]](/books/83981/dora-kastelyanos-lirika-sozvezdie-liry-izbrannye-thumb.webp)

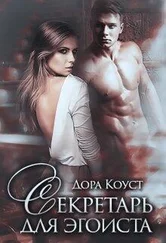


![Дора Коуст - Секретарь для злодея [СИ litres]](/books/397650/dora-koust-sekretar-dlya-zlodeya-91-si-litres-thumb.webp)


