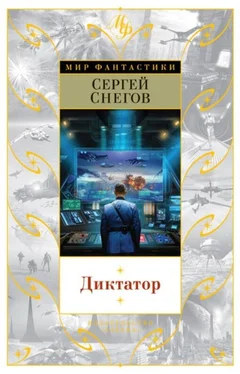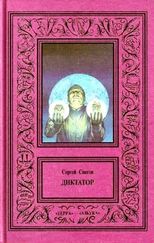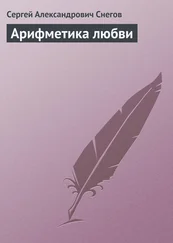— Вот именно! — воскликнул он. — И каждый новый символ, воплощаемый во мне, будет ослаблять уже осуществленные мной идеи, прежде них ставшие символами моего существования. Моя нынешняя драма в том, что я достиг главного, чего хотел. И каждый новый день будет не усиливать, а ослаблять меня. Вам теперь понятно?
— Не все. Итак, вы осуществляете в себе сегодня некий символ. Снова повторяю — чего? Объясните хотя бы в двух словах.
— В двух словах такие понятия объяснить не могу.
— Хорошо, не в двух, а в ста. Обещаю не перебивать.
Он начал издалека. До войны ему и мысли не являлось, что он — нечто большее, чем рядовой ученый, наблюдатель далеких звезд в обсерватории. Внезапный призыв в армию, возмущение бездарностью командиров, решавших его судьбу, заставили ощутить себя военным, умеющим сражаться гораздо искусней, чем они. Это еще не было чувством предназначения. Но выход из окружения, начавшаяся перед этим борьба с правительством, породили ощущение, что он способен заменить бездарных руководителей страны. Он еще не шагал дальше такой идеи — возглавить народ и повести его вперед. Куда вперед? Только ли к победе в этой войне? К победе, порождающей как свое неизменное следствие неизбежную в будущем возможность новых войн? Нет, ради этого не следовало захватывать руководство страной. Истинное его предназначение — бороться не за победу в войне, а за уничтожение всякой войны вообще. Побеждать не в войне, а войну.
— Одно я сразу понял — и это была новая мысль, — продолжал Гамов, все более возбуждаясь от нахлынувших воспоминаний, — что старыми — классическими — способами не пойти войной на войну. Ведь в ней возникает свое обаяние, свои высоты — смелость, находчивость, выручка друзей, способность к самопожертвованию, — да и еще много свойств, признаваемых благородными. Надо было обличить войну как преступление. Но сделать это открыто — выбить оружие из рук собственного солдата. Отнять у собственной армии уверенность не только в необходимости борьбы, но и в благородстве этой борьбы — да это самому толкнуть ее на поражение! Я не был дураком, чтобы решиться на такое. И я знал, что вы, мои помощники, не позволите мне этого. И тогда я придумал для себя раздвоение. Громко, на всю страну, на весь мир доказывал правоту нашей войны и исподволь напоминал, что и в нашей правильной войне всегда присутствуют горе и лишения, что рано или поздно придется за них отвечать. Поручить двум разным людям такое противостояние мнений я не мог, страсть защиты своих мнений привела бы их к такой схватке, что вышла бы за межи государственно допустимого, — и пришлось бы каждого одергивать. И я решил оставить за собой одним это противоборство добра и зла, ибо только я один мог соблюсти в каждый момент нужную меру между восхвалением и критикой. Так появились Константин Фагуста и Пимен Георгиу — и каждый думал, что только он выражает мои сокровенные взгляды.
— Вы и с Гонсалесом и Пустовойтом проделали нечто похожее, — заметил я. — Один, распространяя террор, вселял в каждого ужас, другой защищал от террора актами милосердия.
— Похожее есть, но есть и различие, — возразил Гамов. — Редакторы вели свои линии открыто, в том было их преимущество. Гонсалес виделся гораздо злей, чем был реально. Что же до Пустовойта, то в первое время он вообще лишь втайне исполнял свою функцию милосердия. Главными в задуманном мною плане были Георгиу и Фагуста, а не Гонсалес и Пустовойт.
— Итак, вы увидели высшее предначертание в том, чтобы не только победить в войне, но сделать ее действительно последней. А так как это при множестве разнородных государств немыслимо, то надо подвести мир к единодержавию, то есть стать всемирным президентом. Я правильно рисую ваше предназначение?
— Правильно, но односторонне. Вы увидели далеко не все.
— Что я увидел и чего не увидел?
— Нашу военную цель вы видели ясно с самого начала. И то, что мы вообще добились ее, также и ваша заслуга — вы планировали наши военные операции. Но вы пока не поняли последнего моего предначертания себе, гораздо более важного, чем облик президента, упразднившего войны и объединившего человечество в едином миродержавии. К сожалению, вы дальше политики и войны не глядите.
— А есть еще что-либо столь же важное, как война и политика?
— Есть, Семипалов.
— Что вы имеете в виду?
— Проблемы морали. Даже так — революция в морали и моя роль в ней. Я задумал нравственный переворот в сознании людей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу