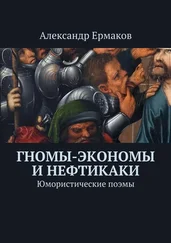Надо сказать, что историю аналоговых вычислителей на 17-м, а затем на 63-м заводе можно считать чем-то совершенно уникальным. Особой главой в истории техники. Ничего не зная о первых опытах с цифровыми ЭВМ в США, о концептуальной идее перехода на двоичный код, на заводе-комбинате-комплексе развивали себе и развивали аналоговые устройства. Их усложняли. Совершенствовали. Сумели придать значительный универсализм за счет ряда оригинальных технических решений. Довели до высокой степени миниатюризации за счет совершенствования элементной базы. Ряд устройств стал настолько совершенным, что уже к пятидесятым годам позволил внедрить в практику строительства крупных самолетов т.н. «счетно-плазовый метод» и, буквально, революционизировал проектирование вообще. Потом, с триумфальным шествием Цифры, достижения в этой области были как-то забыты техническим сообществом. Они могли бы так остаться достоянием историков техники, но потом выяснилось, что многие, многие задачи, которые не удавалось решить на цифровой технике с «классической» архитектурой, на самом деле решены более десяти лет тому назад. Нашлись люди, бывшие выше любых предрассудков, которые предприняли вроде бы безнадежную попытку объединения двух подходов. Было создано несколько вполне практичных устройств «химерного» типа для решения узких задач. А потом возникла концепция «обобщенного числа"*. Такого, у которого разряды имеют право иметь разную «емкость». Авторы утверждали, что любые проблемы, связанные, например, с реализацией полноценного искусственного интеллекта можно свести к элементарным действиям с такими экзотическими «числами», но проверить это было практически невозможно. И тогда оказалось, что чуть-чуть измененные «химеры» подходят для этого как нельзя лучше. Так произошел Великий Синтез, значительно изменивший наши представления о природе информации.
А пока Сане казалось, что уже второй год подряд он делает одно и то же, в сущности, вовсе несложное дело: для того, чтобы выполнить возросшее в десять, в сто раз задание, выдумывает и делает «на коленке» оснастку. Та оказывается очень даже пригодной, и его заставляют делать еще. Постепенно оказывается, что он занят этим делом постоянно и почти круглосуточно, работа становится все более успешной и все более рутинной. Он придумывает, как поставить на поток и «это дело», и просит под него еще людей. Тех самых, которые благодаря его плодотворной деятельности освободились на других производствах. Таких оказывалось, порой, очень немало. И не все его любили из-за хлопот, которые он доставлял таким манером доставлял достаточно регулярно. Но бить все-таки так и не решались. В результате зачастую как-то само собой возникало новое производство.
Чахлый инструментальный цех, одно название, что цех, становился чуть ли ни самостоятельным заводом, а Яков Израилевич теперь дирежировал, по сути, целым училищем, за глаза именуемым «клумбой» за то, что обучались там почти исключительно девушки во-первых, и за их манеру держаться этакой тесной стайкой, прижавшись друг к другу, во-вторых. По мере расширения производства неизбежно возникали новые нужды, Беровича неизбежно привлекали для ликвидации «узких мест» производства или же поставок, он – налаживал выпуск недостающего, постепенно на вспомогательный источник тех или иных деталей и техники начинали смотреть, как на основной, производство из «кустарного» становилось полномасштабным, иногда более, чем солидным, и цикл повторялся. Хотя в те времена этот принцип, эта схема его воздействия на мир еще только складывалась, находились в процессе становления, не стали явной закономерностью.
Саблер, одетый по летнему времени в чесучевый костюм, в шляпе цвета яичной скорлупы на голове, с палочкой в руках и неизменной улыбкой на круглом лице приходил к Сане каждый раз, как только намечался выпуск нового изделия, – узнать, чему теперь придется учить «этих шкиц». Выслушивал, молчал около минуты, прикрыв глаза и набирая побольше воздуху, после чего начинал скандал. Беровичу оставалось только удивляться, каким образом этот старый человек, зачастую ничего не понимая в сути технологического процесса, почти всегда оказывался прав. Он требовал, чтобы все сводилось к простейшей инструкции, «которую может выполнить любой болван». Говорил, что ничего и не хочет понимать, потому что мир состоит из дураков, и то, чего нельзя делать без понимания, не годится для массового производства прямо-таки по определению. И он добивался своего, инструкция приобретала формулировку, ни в одном пункте, ни на одной стадии не подлежащую двоякому толкованию. Он воспитанниц своих он требовал просто-напросто безукоризненности, и поэтому изгонялись не только откровенно неаккуратные, но и те, кто хотя бы раз позволил себе схалтурить, сделать хуже, чем мог. Зато те, кто выбивался из общего строя в другую сторону, показывая умение действовать в неоднозначных ситуациях, «выводились за скобки» в качестве зеленого сырья будущих руководящих кадров, к ним начинали присматриваться. Ни Беровичу, ни тем более Саблеру и в голову не приходило показывать свое особое к ним отношение, потому что такого рода качества были и опасными, и перспективными одновременно. Потому что в армии нет ничего нужнее, чем хороший сержант, и нет ничего опаснее, чем держать в рядовых готового сержанта. Нет и не может быть никаких бунтов и беспорядков там, где все неформальные лидеры становятся по совместительству формальными. К сожалению, такого рода возможность не всегда присутствует, и поэтому империи время от времени с грохотом рушатся. Других причин, в конечном итоге, нет.
Читать дальше
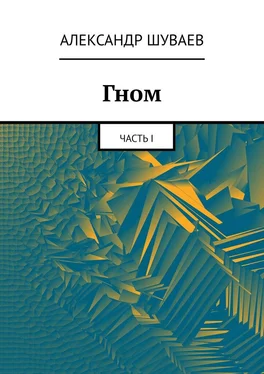
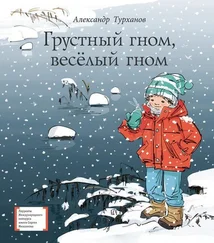



![Генри Каттнер - Жил-был гном [= Здесь был гном]](/books/255797/genri-kattner-zhil-byl-gnom-zdes-byl-gnom-thumb.webp)