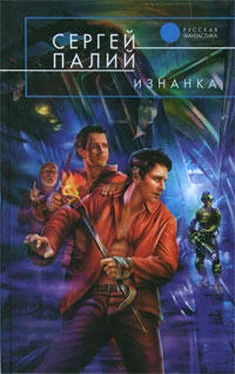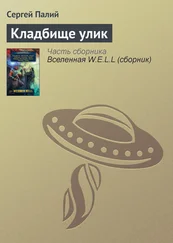— Ага, тоже проняло! — криво улыбнулся Рысцов. — Так разгр…
— Помолчи, — коротко и хлестко перебил его Андрон. Как отсек. — Послушай… Я же неспроста затеял тогда этот винегрет с «Либерой». У меня эс забрал сына, Валера.
Рысцов краем локтя все же успел поддержать отпавшую челюсть, чтобы та не сверзилась в таз с мусором.
— Буквально за несколько дней до тех памятных событий. Тринадцатый год пацану шел, жил с матерью — в общем, история на твою похожа, только я с ним пореже виделся и не афишировал. Ну обеспечивал, понятное дело, финансово…
— А… а чего ж вы… нет, не то. Как же мальчишка жил-то, зная, что его батя известнейший кинорежиссер? Да он бы вмиг растрезвонил на всю округу… Слабо верится во все это.
Петровский промыл картошку и принялся ее резать на щербатой доске.
— Не растрезвонил бы. У него ДЦП был.
— Не понял…
— Чего ты не понял?! Детский церебральный паралич! — рявкнул Андрон, шарахнув ножом чуть ли не по пальцу. — В коляске жил, почти не говорил. С психикой не все нормально тоже… было.
— Ничего себе… — растерянно привстал Валера. Снова сел, не зная, что делать, что говорить. — Почему ты молчал-то?..
Андрон перестал резать, глянул на него через плечо, горько усмехнулся:
— Ну сказал бы я тебе. И что?
— Так… мы бы… — Рысцов заткнулся.
Действительно — «и что?..»
— В общем, он очень много времени проводил в эсе. — Петровский вновь принялся крошить обструганные картофелины. — Те зоны мозга, на которые воздействовали С-волны, поражены не были. Эс подарил ему полноценную жизнь. Там он мог ходить, бегать, играть, разговаривать со сверстниками… Осваивался все больше и больше. Потом получилось так, что пацан стал сшизом. Да не абы как, а второй категории. Спектр его возможностей вновь расширился… И в конце концов пришел момент, когда он дал понять нам с матерью, что не хочет больше возвращаться…
Андрон умолк. Валера даже вздохнуть не смел. В прохладном воздухе сеней раздавались только хруст картошки и шорох лезвия о дерево.
— Я запретил. Тогда уже были технические средства вроде нынешних аппаратов гиперсомнии, и пацана, в принципе, можно было погрузить в перманентный сон. Но я запретил. — На спине Петровского, под несколько маловатой ему рубашкой, угрожающе всколыхнулись бугры мышц. — Я не хотел, чтобы он менял реальность на красивую обертку. Какой бы она ни была. Я его любил таким, какой он был. А он — нет. Мальчишка, ощутив мнимый простор жизни, возненавидел этот мир. Возненавидел мать, меня… Все вокруг… Он после моего отказа больше не произнес ни слова. Уже не один год в его комнате было витражное окно, доходившее почти до пола. Заказали дизайнерам, чтобы пацан мог подъезжать вплотную и любоваться с высоты одиннадцатого этажа парком, раскинувшимся внизу. Эти сволочи не потрудились использовать толстое двойное стекло, как я просил… Сэкономили. Он просто вышиб с разгону его коляской… мать с кухни даже прибежать не успела на звон.
В сенях стало очень тихо. И жутко.
Наконец Рысцов прерывисто выдохнул.
— Поэтому я ненавижу эс, — обронил Петровский, не поворачиваясь и не давая первым заговорить Валере. — И, если представится хоть малейшая возможность, не моргнув, уничтожу этот слащавый мир.
Он ведь продает нам счастливую жизнь втридорога, Валера…
Дверь распахнулась, сдавленно скрипнув, и на пороге показалась широкая, красная с мороза ряха Таусонского. За ним топтался Аракелян. Повеяло вечерней сыростью марта.
— Ага, готовите! Подмога пришла, так-сяк! — громогласно объявил Павел Сергеевич, давая пройти горбоносому профессору:
В хате сразу стало тесно и шумно. Заслышав голос хозяина, из дальней комнаты проорал молчавший все это время, словно партизан перед допросом, попугай Жорик:
— Кр-рабы! Кр-реветки! Жр-рать!
— Валерий, ты готов к сеансу? — спросил Альберт Агабекович, расстегивая волосатыми, чуть подрагивающими пальцами бушлат и стягивая качественно загвазданные сапожищи, которые были размеров на пять больше его ступней. — Начинаем через полчаса, хорошо?
— Да… — потерянно откликнулся Рысцов. — Да, конечно…
Все рассказанное Андроном походило на страшный, кошмарный сон и никак не желало укладываться у него в голове. Как можно носить в себе… такое? Уму непостижимо! Ведь и планку своротить может в два счета — на протяжении месяцев не поделиться таким горем… Ни с кем. Сжав губы, тягать штангу, убивая в себе ярость, беспомощно смотреть, как рушится все вокруг. И вспоминать, улыбаясь окружающим и сверкая крепкими зубами. Вспоминать о том, как запретил несчастному мальчишке уйти в морок счастливых грез, как двумя словами лишил его права на жизнь. Вспоминать, как ошибся…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу