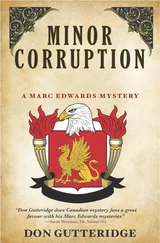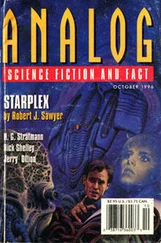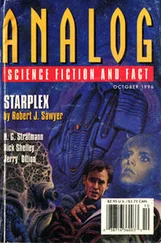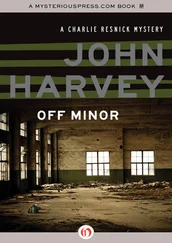Дома Мэтт появился почти сразу же после грозы, — мокрый, оживлённый, счастливый, можно сказать в кураже, с сидящим на плече маленьким чёрным дроздом.
В посольском дворе, откинувшись на спинку литой чугунной скамейки и закинув ногу на ногу, его ждал Лукаш:
— Ну, что, путешественник, знаешь, чем кормят дроздов?
— Кормят тех, которые живут в клетках, — парировал мальчик. — А я никого не держу.
Потом был вечер, и вечерний приём впервые не казался Мэтту обременительным. Он ходил между чопорными, застёгнутыми на все пуговицы гостями и с обаятельной улыбкой дарил каждому из них живой хрустальный цветок. Гости присаживались на корточки, чтобы познакомиться и пожать мальчику руку, а цветы качали прозрачными головками и звенели.
А ночью у Мэтта поднялась температура.
Ая не помнила, чтобы она вообще когда-нибудь плакала так, как плакала сегодня, сидя под куполом в прозрачном стектонитовом туннеле у молчащего генератора Бибича: в голос, навзрыд, с каждым выдохом повторяя "я больше так не могу!".
Правда, длилось это недолго, и уже спустя полчаса после приступа то, что мучило её, стало настолько зыбким и смазанным, что спроси её кто-нибудь о причине случившейся только что истерии, она вряд ли смогла бы дать хоть сколько-нибудь вразумительный ответ.
Что "не могу"? Почему "не могу"?
Отплакав, она долго сидела в тишине, прислушиваясь к тому, что происходило у неё внутри.
Обычно если тоска и накатывала, то случалось это во снах, в здравом же уме и трезвой памяти — наоборот — всегда приходило облегчение.
Тем неожиданнее было то, что было — и это ещё не растаявшее до конца ощущение болезненности происходящего, и эта бездонная дыра, в которой гулко и учащённо стучало сердце.
Она и сама понимала, что доля реализата — не самая худшая участь: предвидеть будущее, заглядывать в прошлое — ну, разве можно огорчаться тому, что имеешь глаза или уши?
Однако выходило так, что, оказывается, было можно. Была некая тонкая грань, которую она даже для себя самой боялась определить.
Там, за этой гранью, трава тоже была зелёной, вода тоже была мокрой, а кровь стучала в венах примерно в прежнем ритме, — но существо, таящееся в глубине её души, открывало какие-то немыслимо невозможные глаза и видело за всем этим вечную безбрежную бездну.
Она знала, что бездна эта не была ни страшной, ни странной.
Странными были чувства: они то тупились до полного угасания, то сжигали Аю изнутри, — точь-в-точь как в накрывшем её полчаса назад припадке.
В такие моменты ей начинало казаться, что вот это, переживаемое ею жгучее, глубокое и безымянное и есть то единственно правильное, ради чего в этой жизни вообще стоило что-нибудь делать.
Конечно, она осознавала, что это не так. Конечно, она понимала, что это так же нелепо и так же неправильно, как неправильно пытаться рисовать всеми цветами одновременно: каждая нота в этой вселенской фуге, как каждый мазок на картине — от еле видимых до переплетающихся между собой густых, насыщенных, разноцветных, — должна была иметь свой, особенный, тембр и свою, особую, громкость. Однако то, что накатывало на неё, накрывало её с такой силой, что ноты эти сбивались и трепетали, как затянутая смерчем мошкара.
То, что накатывало на неё, вовсе не было безысходностью хотя бы потому, что Ая не была обычным человеком.
Конечно, многое, присущее людям, досталось ей от них по наследству: ей так же надо было есть и дышать, она так же нуждалась в любви и понимании, а любовь и понимание, которых ей недоставало, были точно такими же утопическими, и получить их было так же нереально, но была и огромная разница. То, что давал ей Бенжи, ложилось на благодатную почву не только её собственной любви, но и её собственного понимания.
Она видела будущее — и своё, и Бенжи. Она видела его так же ясно, как видела, например, капельки влаги на запотевшем от дыхания стектоните или сложенные на коленях руки, и будущее это было неизбежным.
Выходило так, что её "я больше так не могу" означало то, что именно таким образом будущее изо всех сил стремилось быть реализованным.
Ая вздохнула и под шелест щекочущего между лопаток ветра без крыльев, солдатиком, скользнула вниз, в дыру.
Будучи машиной, Бенжи вполне мог позволить себе не тратить время впустую.
"Дан-дан-дан", прозвонившее у него внутри, застало его в процессе трансформации бездействующих денежных средств в ссудный капитал. Для покупки челнока ему ещё не хватало чуть более пятнадцати миллионов евро.
Читать дальше