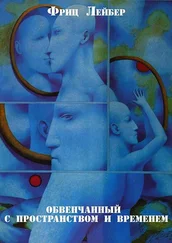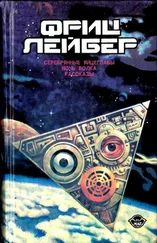Затем в мозгу появилась другая мысль, предательская и коварная. «Если добровольно открыть дверь и впустить его… Если отпереть дверь на кухне, а затем открыть дверь в спальню, существо не причинит тебе зла…»
Я отчаянно боролся с этим наваждением, против всё сильнее и сильнее подавлявшего мою волю желания встать, подойти к двери и… Это совершенно непреодолимое стремление, казалось, не зависело от моей воли, словно было продиктовано неумолимой посторонней силой.
Я упорно продолжал печатать. «Форд», «Бьюик», все остальные марки автомобилей, которые я только мог вспомнить; слова из четырёх букв; алфавит, сначала прописными, затем строчными буквами; все знаки пунктуации; вся клавиатура пишущей машинки справа налево, слева направо, сверху вниз и снизу вверх и по диагонали… Очень быстро я покончил с запасом чистой бумаги, но продолжал печатать, словно свихнувшийся автомат, тупо глядя на буквы, нечетко отпечатывающиеся на черной резине валика.
И наваждение победило. Я больше не мог сопротивляться. Во внезапно наступившей тишине я встал и направился к застекленной кухонной двери. При этом смотрел себе под ноги, стараясь шагать как можно медленнее…
Прикоснулся к дверной ручке, потрогал торчавший из замочной скважины ключ, прислонился к двери. Казалось, будто сама дверная панель стремится преодолеть мои последние отчаянные попытки сопротивления с такой силой, что только вес моего тела не позволял ей разлететься вдребезги.
В этот момент откуда-то издалека донеслись звуки часов, отбивавших полночь. Один удар, второй…
И, поскольку я больше не мог сопротивляться ни секунды, я повернул ключ.
В квартире погас свет. Неудержимый порыв швырнул дверь на меня. Через распахнутый дверной проем пронеслась какая-то неясная масса, слегка задев меня; что-то похожее на ледяной взрыв, в котором проблескивали язычки огня.
Почти сразу же открылась дверь в спальню. Потом я услышал, как часы на университетской башне отбивают последние удары: одиннадцать… двенадцать…
Затем… А затем ничего не было. Совершенно ничего. Все страхи, все наваждения внезапно оставили меня. Появилось ощущение, что я остался в квартире один. Совершенно один. Я чувствовал это всеми фибрами своего существа.
Некоторое время, наверное, минут пять, я не шевелился. Потом закрыл дверь и отправился искать свечу, чтобы осмотреть квартиру.
Никаких следов Макса. Я, разумеется, знал заранее, только подходя к спальне, что его там уже нет. Но я ничего не знал о его судьбе и совершенно не представлял, какие последствия могла иметь для него моя слабость. Я рухнул в постель и заплакал. Через некоторое время я погрузился в сон.
* * *
На следующий день я встретил управляющего и сказал ему о неполадках с электричеством.
— Я знаю, — проворчал он, странно поглядывая на меня. — Утром я уже заменил предохранители. Но такое я видел впервые — у коробки с предохранителями не осталось ни одного целого стекла, а все металлические детали внутри расплавились.
Вечером я получил послание от Макса. В конце дня я обычно гуляю в парке, и в то время, когда я сидел на скамейке на берегу пруда, я внезапно почувствовал, что у меня на груди кармане очутилось что-то обжигающее. Сначала я подумал, что мне за воротник упала горящая сигарета, но тут же понял, что сильно нагрелся внутренний карман куртки. Это был тот самый листок зелёной бумаги, который оставил мне Макс; сейчас над ним поднималась тонкая струйка дыма.
Я развернул листок и прочитал несколько фраз, написанных торопливым почерком. Дымок шёл от букв, которые чернели на глазах.
«Я подумал, что тебе будет приятно узнать, что всё закончилось хорошо. Однако, при этом мне порядком досталось! Но теперь всё позади, я присоединился к своим ребятам. Надо сказать, что это произошло очень своевременно. Спасибо тебе — ты послужил мне в этом деле отличным арьергардом!»
Текст был написан той же рукой (или нужно было сказать: той же мыслью?), которая накануне нацарапала на этой бумаге обращение сверху и поставила внизу подпись.
Бумага разом вспыхнула. Я отбросил её в сторону, и двое мальчишек, возившихся поблизости с корабликами, с подозрением уставились на меня. Я смотрел, как бумага горит, чернеет, превращается в пепел и рассыпается в труху.
Я кое-что понимаю в химии, во всяком случае, достаточно, чтобы представлять, что бумага, пропитанная влажным белым фосфором, воспламеняется, как только высохнет. Точно так же я знаю, что есть много рецептов чернил для тайнописи; текст, написанный этими чернилами, проявляется только при воздействии на бумагу тепла — это называется химической тайнописью.
Читать дальше