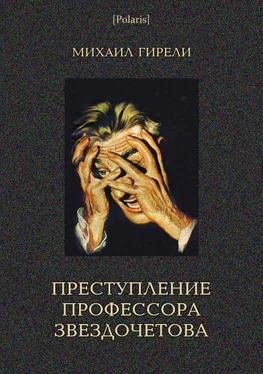— Но я то и пришел для того, чтобы полечить вас….
— Весьма признателен, но сознайтесь, дорогой друг, что аксессуар вашего лечения не очень-то разнообразен. Право же, я им владею в той же степени. Acidum arsenicosum, Ferrum glycerophosphoricum [13]и — черного мяса ни-ни-ни. Яйца, масло, молоко!
— Странно выслушивать от врача подобные вещи!
— Странного гораздо больше в жизни, мой милый, чем вы предполагаете даже… О странностях говорить не будем. Идите пить чай с Ольгой Модестовной и, если хотите действительно сослужить мне услугу, то, прошу вас, уверьте вы бедную женщину, что ни бубонной чумой, ни проказой я не болен и холодное дно могилы так же далеко от моей ноги, как от головы моей горячий полог неба. Простое переутомление, которое уже проходит, а вскоре и совсем пройдет, — несколько иронически закончил Звездочетов, но Панов этой иронии в его голосе не уловил.
— Хорошо. Но вы мне даете слово действительно начать поправляться и ничем научным не заниматься?
— Ого! Ультимативные угрозы? Как скоро вы готовы укусить локоть той неосторожной руки, что доверчиво положила вам палец в рот! Впрочем, успокойтесь! Если пичканье себя мышьяком и железом вы не сочтете за научные занятия, то даю вам слово таковыми не заниматься.
— Тогда на сегодня я отойду от ваших дверей, не пытаясь их взломать. Однако, не могу не сказать, что не ожидал быть не удостоенным чести переступить порог вашего кабинета.
— Опять обида! Одно из двух: если я здоров — вам нечего делать у меня как врачу, если я болен, — на больных не обижаются. Однако, желая изгладить из вашей памяти всякое неприятное воспоминание о себе, я напоследочек приготовил вам сюрприз: отверните ковер у моих дверей. Под ковром лежит тетрадь. Это рукопись. Результаты моих последних открытий. Прочтите, а главное, разберитесь в ней. Когда окончите, можете вновь явиться ко мне и даю вам слово, что будете впущены. А так как чтение предлагаемой тетради займет у вас день, вникание в нее другой, то льщу себя надеждой, памятуя, что сегодня воскресенье, видеть вас у себя во вторник вечером. А теперь good bye и не мешайте мне спать.
Панов передернул плечами, с недоверчивым видом отвернул край ковра и извлек оттуда тоненькую синюю тетрадь.
— Странно все это, однако, — шепотом сказал он Ольге Модестовне, вместе с нею отходя от запертых дверей кабинета и, пряча па ходу в боковой карман своего сюртука тетрадь, проследовал за нею в столовую.
— Ну, а по голосу вы ничего не можете сказать? — таким же шепотом спросила Ольга Модестовна.
— Голос, как голос! Ничего особенного. Голос Звездочетова. Голос вполне здорового, крепкого и нормального человека. Я постараюсь прочесть за ночь рукопись профессора. Днем я буду разбираться в ней. Таким образом, я ускоряю срок, назначенный мне профессором для второго визита. Завтра вечером, я думаю, что буду у вас….
— Вам два куска сахара или один? — спросила Ольга Модестовна, положив уже один кусок в стакан, а другой, ухватив серебряными щипчиками, держа в воздухе.
— И послаще, и покрепче, если можно.
Из самовара, как из душного плена, вырывался пар — его скрытая сила — и таял в воздухе, обращаясь в ничто.
Двое людей пили чай и говорили о пустяках.
А страшная жизнь, вырываясь из космического плена, текла своим неизменным чередом, где-то рядом, сбоку, никого не касаясь, не затрагивая и обращаясь в ничто.
Мимо… Мимо… Мимо…
Доктор Панов велел подать себе бутылку крепкого вина, удобно расположился в своем кабинете за письменным столом, придвинул поближе лампу, изображавшую художественно сделанную из дорогого сибирского камня нагую женщину, подарок благодарных пациентов, и открыл тетрадь.
Нагая женщина, высоко подняв над головою точеные руки, в мучительной истоме несла хрупкий сосуд, в который была ввинчена электрическая лампочка и из которого, как нектар, лился на всю ее, как бы ожившую от этого, ослепительную наготу, поток телесного света, который заканчивался на исписанных страницах открытой тетради.
Многое было Панову неясным и странным в поведении профессора Звездочетова и порою ему начинало казаться, что маститый ученый просто сошел с ума.
Эта тетрадь должна была разрешить его сомнения.
Ольге Модестовне он не открыл своих подозрений, не желая преждевременно запугивать се.
«По отношению к некоторым женщинам откровенность неприменима, — думал он. — Однако, если эта тетрадь подтвердит мои предположения, то тогда я сумею отыскать путь для действия….»
Читать дальше