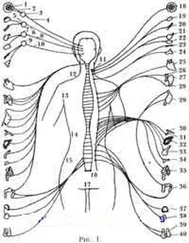– Слушай, а если меня зафрахтуют, тогда что?
Тарновский замер, пораженный сочетанием грязи и почти детскими, наивными интонациями; хаос мыслей готовно сложился пошленькой конструкцией.
– Ну, тогда ты сможешь точнее их описать. – он осекся, поймав ее взгляд, спазм стыда транслировался мурашками. Да, что это с ним сегодня!
Брюнетка молча отвернулась, зашагала к «Волге»; он смотрел на худенькую спину, лопатки, выпирающие под блузкой, проклинал сентиментальность.
Дистанция между девушкой и машиной сокращалась, вот уже осталось пятьдесят метров, двадцать, десять, – будто не выдержав пытки, взбрыкнув, взревев двигателем и поднимая клубы пыли, «Волга» рванула с места, отъехала метров на двести вперед и остановилась. Гордая, сияющая, будто новогодняя игрушка, –завороженно, отрешенно Тарновский смотрел, как девушка возвращается, что-то бормоча, неловко оступаясь на камнях. Он снова чувствовал себя стариком, больным, беспомощным, жалким.
– Ну что, видел? Плакали мои денежки, – Надя (он вдруг вспомнил ее имя) с надеждой покосилась на него. – Но эти я тебе все равно не отдам, – она тряхнула видавшей виды, расшитой облезшим бисером сумкой.
– На вот, возьми, – Тарновский протянул банкноту; будто провенансом жалости, стыда увидел счастливое лицо, золотые коронки.
– А ты ничего, добрый, – девушка помедлила, забирая деньги. – Тебе точно ничего больше не надо?
– Нет, в самом деле, нет, – он вдруг понял, что говорит слишком поспешно, что почти оправдывается, что смешон, жалок; инерция вины тащила в отрицание, оправдание. – Я тороплюсь сейчас. Очень…
Брюнетка еще раз внимательно окинула его взглядом.
– Может, заедешь как-нибудь? В другой раз? – она кокетливо улыбнулась, и за развязностью, бесстыдством Тарновский увидел вдруг надежду, робость; картины, одна смелее другой завертелись радужным калейдоскопом. Она сказала: «может быть»? Да, почему нет? Ведь, для того, чтобы все вернуть, бывает достаточно одного мгновения, точно такого же, как и то, которое это все отняло. Нужно только поверить в это мгновение, нужно…
Волшебство прервал какой-то посторонний звук, резкий, требовательный. Тарновский вздрогнул, обернулся. Это сигналила «Волга», сигналила ему. Сигналила, бросая вызов, вызывая на поединок.
Мираж рассеялся, Тарновский увидел перед собой неопрятную, обрюзгшую женщину неопределенного возраста, недалекую, нетрезвую, рассмотрел паутинки вокруг глаз, складки у рта, вульгарный макияж.
Господи, какой бред! Он, Тарновский и придорожная путана! Блудница и сибаритствующий эстет! что-то новенькое в мировой практике!
– Все, Надя, может быть. – выговорил он первое, пришедшее в голову. Краешком сознания цепляя подоплеку, генезис, брякнул: – Надежда умирает последней… – это-то здесь при чем? Ну, не идиот ли!?
Вулканчик рефлексии саднил, пузырился чем-то еще, он скомкал, отбросил, переступил. Стараясь не смотреть в сторону девушки, проклиная все на свете, развернул машину, быстро выехал на трассу.
Машина ровно и сильно пожирала ленту дороги, отрабатывая ее назад, под колеса неотступно следующей, будто привязанной, «Волги». За свою жизнь Тарновский сменил много машин, так много, что все они слились для него в некое сюрреалистическое существо, какофонию ассоциативно-аллегорической полигамии. Машины приходили и уходили, отождествляя и сменяя людей, даты, события, оставляя зарубки на косяке памяти, и Тарновский прощался с ними легко и без сожаления, словно с отслужившими свой век прошлогодними календарями. Он не знал, сколько суждено ему ездить на своей теперешней, но знал точно, что запомнит ее навсегда, от первой минуты до самой последней.
Так уж вышло. Краешек сознания, крохотный сквознячок, образовавшийся вследствие душевной лени, легкомысленного попустительства неким туманным и безобидным абстракциям со временем разросся, академический авантюризм, склонность к эпатажу, как способу доказательства (в том числе, и самому себе) собственной исключительности, довершили дело. Ну да, да, если опустить тонкости и подробности, отжать воду и читать по диагонали, вся исключительность свелась, в конце концов, к банальному (гора родила мышь?) антропомофизму. С налетом, впрочем, некого естествоведческого романтизма, можно даже сказать, благородства – он считал все сущее полномочным и полноправным актором бытия, наделенным чувствами и интеллектом. Этакий парафраз Гегельянского «все действительное разумно», и – если смотреть правде в глаза – плоть от плоти экстраполяция веры в Бога. И вот здесь коллизии дуализма накрывали уже категорически и всерьез – как можно, человеку его склада и калибра, какое-то детство, доморощенный оккультизм. Здесь уже игры заканчивались, попахивало глупостью и инфантилизмом, личностным и социальным дезертирством; в спешке, в стремлении оправдаться он прикрывался наспех сколоченными декорациями таких же скороспелых и невнятных теорий. Для пущей важности армированных принципами Канта и подправленными бритвой Оккама, – ну да, да, чем заумней, тем весомей, действенней – критики разума, априорные формы и апостериорное знание, в какой-то степени – переход количества в качество.
Читать дальше