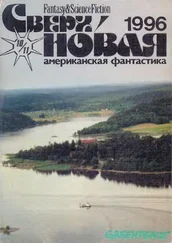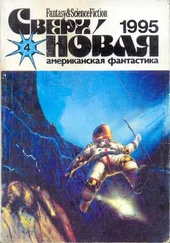— Выше голову, — сказал он.
Я оглянулся на него. Он слегка наклонил набок голову, а его затянутые дымной пленкой глаза походили на перламутровые кружки. Я гадал, так уж ли «выше». Не уверен, что я, ослеп-нув, доверил бы кому бы то ни было провести меня даже через комнату, не говоря уже о полетах.
— Я готов, — ответил я.
Генри охватил меня согнутыми коленями, и я услышал сухой скрежет его спинных пластинок, когда он высвобождал крылья. Все их радары работали, и в воздухе покалывало так, что волосы на затылке поднимались дыбом. Но нужно было забыть об этом и задействовать глаза и уши и интуицию. Это было все равно, что влететь в пчелиный рой, с той только разницей, что пчелы тут весили по триста фунтов. Я нырял, и крутился, и облетал, прокладывая дорогу, как меня учили и как не учили никогда, и все это время Генри нес меня прямо по проспектам, в гущу движения, в самое напряженное время дня. Никто не летал так, как мы в тот день. Мы пятьдесят раз чуть не промахнулись, и раз десять чуть не столкнулись, и я все ждал, что их блюстители порядка нас оштрафуют. А потом я заметил, что все расступаются перед нами, и дают нам дорогу, и смотрят, куда мы направляемся. Поначалу я думал, мы попали в дырку, но потом сообразил — весть уже распространилась. Они знали, что Генри вернулся. Он пережил самое худшее из всего, что могло приключиться по их меркам, и им хотелось поглядеть, как он справляется с этим.
Мы летали все утро. Потом Генри спросил меня, как мы сориентированы по отношению к некоторым разметкам на Дереве, и начал вести меня. Мы оставили Дерево и какое-то время следовали вдоль глубокого каньона, на дне которого протекала река. Стены ущелья были из выкрошенного сланца, а в расселинах, там, где было за что зацепиться, росли купы скрюченных деревьев. Каньон становился все глубже, все уже, его накрывал балдахин зелени так, что свет превратился в зеленоватые сумерки. К этому времени можно было уже расслышать шум водопада. Неожиданно Генри откинулся назад в своих помочах и мы полетели прямо вверх, пробив листву, и оказались на широком затененном карнизе, нависшем над каньоном. Я слышал оживленное жужжание. Мы приземлились на карнизе, и Генри перевел дыхание.
— Что это за место? — спросил я.
— Ну, я думаю, ты назвал бы это «кафе», — сказал он через транслятор и уже вслух повторил: —«Кааф».
Я заколебался. Это было одно из их укромных мест. У них есть свои клубы и все такое, но нас туда никогда не пускали.
— Думаешь, мне стоит появляться там? Я хочу сказать, я могу тебя подождать и здесь. — А сам подумал: «Ну точно, как послушная собака».
— Не глупи. Я — один из владельцев. А может быть, и единственный владелец, остальные, должно быть, уже умерли.
Он слегка подергал меня за сбрую, и я завел его внутрь. Там были столы и длинные каменные скамьи, народу — полно. Увидев меня, они разом прекратили все разговоры. «Они не любят нас, — подумал я, — мы для них ничто». И затем, когда они поняли, что это Генри, все вокруг прямо-таки взорвалось. Все кинулись к нему. Он позволял дотрагиваться до себя, приглаживать перья, заглядывать в глаза и прикасаться к покрытым перьями выростам на голове; а потом, прижимая сбрую так, чтобы я мог понять, он сказал им всем, что долетел сюда с моей помощью. Я почувствовал прилив эмоций, но не слишком боялся его. Все-таки мы были в кафе.
Нас усадили и принесли Генри и мне по тарелке, до краев наполненной листьями, и по чаше желтого меда, настоянного на цветочном нектаре. Генри гут же занялся своей едой, но потом заметил, что я не ем. Тогда он поднялся, и я уловил через сбрую, что он требовал еду для своего друга. Кто-то вышел и вернулся с тарелкой фруктов и ягод, так что и я мог поесть вместе со всеми. Я оголодал после всех этих полетов и ел не заботясь, годится мне это или нет. Я так полагал, что если Генри доверил мне вести его в полете, то я могу доверять ему в том, что он меня не отравит. Как выяснилось, эти фрукты содержали в небольшой концентрации какой-то алкалоид, поэтому вскоре я уже распевал со всеми песни и отплясывал на столах, и Генри таскал меня повсюду и позволил каким-то своим друзьям по очереди надевать сбрую. Генри научил их, как говорить «собака», и они тут же сложили по этому поводу песню. Потом Генри показал мне свои картины, развешанные по стенам. Многие были по-настоящему старыми и нарисованы дешевой краской на досках, которые уже начали трескаться. Генри описывал каждую. Оказывается, они ничего не убрали и не перевесили с тех пор, как он был тут в последний раз.
Читать дальше