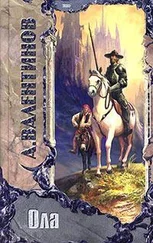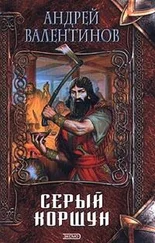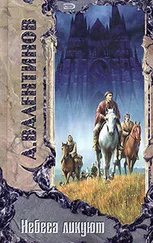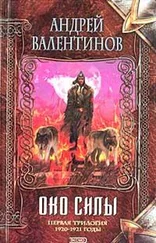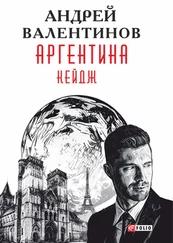За дверью – малый тамбур с охранником за стойкой. Лейхтвейс достал паспорт, но кивка его спутника оказалось достаточно. Лестница, второй этаж, длинный коридор с зеленой ковровой дорожкой, двери в черной коже. Остановились у той, что в торце, возле которой уже скучал Пауль с чемоданом при ноге. Ламла, позвенев ключами, нажал на сверкающую медью ручку.
– Прошу!
Лейхтвейс переступил порог, огляделся…
– Ну, как, господин Фелинг? Впечатляет?
Вместо дерева и кожи – бетон и сталь. Стена, три двери в зеленой краске, желтый электрический свет, охранник за простым деревянным столом. В первый миг Лейхтвейсу почудилось, что он уже здесь бывал. Или не здесь – в старом бункере посреди соснового леса. Только там – голый камень, и лампы не прячутся за матовыми колпаками.
Толстячок кивнул на двери.
– Каждая ведет на свой этаж. Гранатой не подорвать, мы пробовали. Ни войти, ни выйти! В случае чего, можно продержаться очень долго. Ни в одном нашем посольстве такого еще нет!
Господин Ламла весь лучился довольством, его гость, напротив, враз утратил хорошее настроение. «Ни войти, ни выйти!». Тюрьма, бетонный карцер… И только одна мысль грела душу. Там, где нельзя выйти – можно улететь. Не удержите!
* * *
В семье Таубе, коренных петербуржцев, Москву принято было ругать, причем за все подряд: за грязь на улицах, отсутствие архитектурного вкуса, за грубость московской толпы и снобизм местных «бояр». Прибалтийские дворяне Таубе, служившие империи с начала XVIII века, для ревнителей старины оставались выскочками да к тому же «остзейцами». Но все осталось в прошлом. Революция перевернула не только мир, но и оборвала традиции. В Москве, ставшей столицей, жизнь плохо ли, хорошо, но теплилась. Питер же, брошенный и полупустой, вымирал, даже благодетельный НЭП оживил его не сразу. Пустые дворы, трава, проросшая сквозь булыжные мостовые, спиленные деревья Летнего сада, разбитые и заколоченные окна Зимнего…
Трансваль, Трансваль, страна моя,
Ты вся горишь в огне!
Коле Таубе Москва нравилась, хоть и бывал он в столице всего три раза. Однако, вспоминая отцовские слова, по-прежнему считал, что истинный центр бывшей Империи – все-таки Петроград, детище Преобразователя. Москва, как ни крути, слишком кондова и домотканна.
– Геополитика, Николай, – непонятно ответил куратор, когда Лейхтвейс случайно о том обмолвился. – Закон больших расстояний.
Улыбнулся и пояснил, стараясь говорить попроще:
– Чем дальше от столицы, тем земля менее своя. Сначала – провинция, потом – колонии. Поэтому в нормальной стране столица находится в самом центре, как сердце. Такой была Москва до Петра. Вокруг – своя земля, колонии начинались за Уралом. Царь Петр старую Россию, Святую Русь, не любил, поэтому он и перенес столицу на самый край.
– Простите, Карл Иванович, – совсем растерялся Лейхтвейс. – Вы хотите сказать, что для Российской империи вся страна была колонией?
Куратор кивнул.
– Именно так. Колонией, которую требовалось европеизировать. А свои были рядом, в Прибалтике – ваши, Николай, предки, остзейские немцы. Все по Пушкину. Не забыли? «Правительство все еще единственный европеец в России. И сколь бы грубо и цинично оно ни было, от него зависело бы стать сто крат хуже…»
– «…Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания», – вспомнил Таубе. – Тогда получается, Ленин был прав, возвращая столицу в центр страны? Но… И фюрер прав, когда говорит, что большевики, уничтожив тех, кто мыслил по-европейски, загнали Россию обратно в Азию?
Карл Иванович взглянул серьезно.
– Думайте сами, Николай. Для вас Сталин – это Термидор. А для меня – Чингисхан с телефоном, как выразился ваш тезка Бухарин. Борьба со Сталиным – это борьба за ту Россию, которой честно служили ваши предки. За Империю – против татарской Орды. Вы – не предатель, Николай. Вы – боец на Куликовом поле.
Позже Лейхтвейс часто вспоминал эти слова. Он – не предатель. Золотой нательный крест – против черного камня.
«Завтра мы встретимся и узнаем…»
* * *
Наконец, его оставили наедине с тишиной. Тяжелая стальная дверь закрылась практически бесшумно, отрезая от мира. Только негромкое, еле слышное «Клац!», словно челюсти, сомкнувшись, перекусили последнюю нить. Лейхтвейс облегченно вздохнул. Заперто с двух сторон. Если кто-то захочет войти, загорится зеленая лампа и включится зуммер. В его воле – пустить или не пустить. Лейхтвейс словно попал на борт «Наутилуса». Очень похоже, единственное окошко под самым потолком, круглое, словно иллюминатор, зато много ламп. От огромной, под тяжелым матовым колпаком, до совсем маленьких возле тумбочки у дверей, на которой стоял телефон без номеров на диске.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу