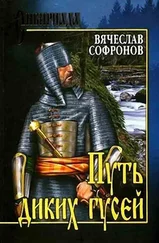Сын стал жить в прежней своей комнате на втором этаже, где год назад жил Сергей, ходил как тень — нелюдимый, молчаливый. Словно жгла его изнутри, невидимая ей боль, не давая о себе забыть.
Прошло много времени, и вот однажды сын рассказал матери, вдруг, когда они сидели в ее комнате, пили чай. Рассказал ей об эшелонах.
Рассказал, как стоили железную дорогу вместе с другими заключенными, и эта дорога вела к старым заброшенным шахтам.
Многие умерли на этих дорогах — падали лицом в гравий и оставались лежать. А потом, по готовой ветке железнодорожного полотна, стали проходить товарные поезда с вагонами для скота, и он видел человеческие лица, выглядывавшие сквозь решетки из световых узких окон и высунутые махающие руки.
Вскоре эшелоны эти возвращались, уходили назад, туда, откуда пришли, но в окнах уже не было лиц, а была лишь мертвая пустота.
Он так и сказал ей:
— Мертвая пустота.
Тогда Тосия рассказала сыну о пришельцах, о Сереже, Михаиле и Светлане.
Говорила тихо, и лицо ее становилось иногда задумчивым, иногда мечтательным. Спросила сына, не будет ли он против гостей?
Тот был непротив.
Стал приходить Эвол Кюмо с женой — худой веселушкой, с колючим недоверчивым взглядом. Звали ее Гояла.
Она знала о пришельцах от мужа и всегда, когда речь заходила о них, всплескивала руками и говорила восхищенно:
— Надо же, и они тоже люди! Кто бы мог подумать. Они, наверное, хорошие люди, правда, Эвол?
И Гояла всегда показно ухаживала за мужем, спрашивая, что-нибудь, вроде:
— Тебе положить еще кусочек, дорогой?
Или:
— Может еще чаю, дорогой?
В ее глазах загорался лукавый огонек, обращенных к Тосии невыразительных глаз.
Говорили о всяком.
О сократившихся зарплатах, митингах и о больнице, в которой Тосия и Эвол много лет проработали вместе.
И Эвол, вдруг, ни к кому не обращаясь, говорил:
— Мирные берега… Где они?
* * *
Перед лицом Сергея, за стеклом гермошлема скафандра, медленно плыла плоская стальная балка опорной фермы. Держась за нее, он толкал свое тело в неповоротливом скафандре дальше в темноту проема, между жилыми комплексами, увеличивая расстояние до входного шлюза.
Справа в отдалении, на плоской посадочной платформе для «Торов», светил яркий белый фонарь. Внизу под Сергеем, метрах в десяти, проплывала серебристая стена второго жилого комплекса, с обращенным в его сторону овальным иллюминатором, за которым в матовом приглушенном свете, виднелся длинный стол и белые кресла с высокими закругленными спинками.
Фонарь освещал все вокруг — ферму, внешние стены обоих комплексов и от его белого света, белые перчатки скафандра, казалось, сами источают свет.
Там, куда не проникало наружное освещение, лежали черные непроглядные тени, будто начало глубокой пропасти.
За Сергеем по страховочной штанге — круглой и блестящей трубе, тянулся трос со стальным карабином. Сенчин двигался медленно, скафандр словно упирался, противился его движениям.
«— Сегодня все получится,» — думал он: «— Сегодня — День пробуждения.»
Он подтянул за собою трос, отстегнул карабин и, переставив его на следующий участок страховочной штанги, опять зацепил. На звезды позади себя он старался не смотреть.
Не теперь.
Еще рано.
День пробуждения!
Сегодня все должно получиться.
Он называл так, ставшие уже редкими дни, когда он просыпался утром и его мысли были четкими и ясными, а чувства вполне вписывались в реальность. Все остальное время — слившееся для него в месяцы и годы, Сергей «отсутствовал».
Он так это называл.
Отсутствие.
Бессмысленно бродя по коридорам «Странника», он заглядывал в пустующие помещения, ожидая увидеть в них призрак, приведение, такое же, как и он сам.
Потеряв счет времени, Сергей мог часами сидеть где нибудь в отсеке и бессмысленно созерцать перед собой несуществующую точку в пространстве. Бессмысленный и ничего не чувствующий он, как-бы умирал, уходя в призрачные образы прошлого, прислушивался к чему-то неуловимому, искал там живое.
Ему понравилось говорить вслух самому себе, слушать звуки собственного голоса и представлять, что он не один. Бывали дни, когда на него нападал безотчетный страх — животный, безумный, и Сенчин загонял его в глубину сознания, логическими убеждениями, предостережением самому себе о возможном безумии.
Ни фильмы, ни книги, ничто уже не могло вернуть к себе его интереса, все это потеряло для него всякую значимость, стало мертвым.
Читать дальше