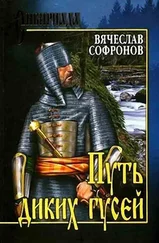— Это ничего для меня не изменит…
Что он там кричал в небо?
И Вяземская смотрит на него поверх белой фарфоровой чашки — ласково, по-матерински, и Василий Вяземский смеется, говоря:
— У тебя еще вся жизнь впереди, увидишь.
Когда это было?
Было.
Очень давно.
Он стоит с Тосией Вак у окна и она говорит о своем — драгоценном, единственном, что у нее осталось:
— Есть надежда, понимаешь, Сережа?
Глаза Эвола Кюмо, смотрят прямо, честно:
— Ведь она верит мне…
И Склим Ярк, громко смеясь и обливая брюки вином, говорит с недоверием:
— И я, это увижу?
И не увидел ничего из обещанного ему Сергеем, умер там, в полицейском участке, в котором прослужил столько лет.
Его жена Галя Романова, которая умерла за год до высадки на Твердь, гладит его руку, говорит успокаивающе в ночи отсека, когда Сергей проснулся от собственного вопля и, проснувшись, все еще был в своем кошмаре:
— Все будет хорошо, Сержик… Это сон.
И Ганс Вульф, молодой мальчишка, еще до старта, смеется над шуткой Мишки:
— Вот увидите! — говорит он: — Вселенная нас примет, как своих.
Голос компьютера произнес, разгоняя слова и образы ушедших:
— Жду команду.
Сергей неподвижно сидел в кресле, глядя перед собой, ничего не видящим взглядом.
— Прости, Света…
«Странник» трижды облетел Твердь, прежде чем Сенчин дал отбой боевым системам звездолета.
А через четверо суток корабль засверкал огнем ходовых двигателей, и по расширяющейся, невидимой спирали, ушел от Тверди, ложась на новый непройденный курс.
К солдатам у костра прибился высокий, с благообразным лицом, седой старик, в старых грязных обносках. Черпая алюминиевой ложкой горячую пшенную кашу из солдатского овального котелка, плакал и его старческие слезы катились по грязным, давно не мытым, щекам.
Стояла глубокая ночь.
Десятка два солдат собрались у ночного костра, смотрели на бушующее в нем пламя, уносящее к далеким звездам крошечные яркие искры.
— Спасибо, спасибо, сынки. — говорил старик, и несколько лиц, сочувственно глядевшие, повернулись в его сторону: — Много я, ребятки, от этой офицерской сволочи натерпелся. Ох, много. Жил-то я у гнилых кварталов, один. Старуха моя умерла, детей у нас и не было. Так повадился к ним, к неприкасаемым, ходить, то вещички какие-нибудь им подкину, то поесть принесу. Я конечно, понимаю — они грязь общества, и вы можете укорить старика за слабость…
— Полно, дед, глупости-то говорить, — беззлобно произнес, обращаясь к нему солдат лет сорока пяти, худощавый и сутулый, с черными, коротко подстриженными волосами: — Неприкасаемые — они те же люди, чего тут… Теперь жизнь пойдет другая — все равны. Нет больше неприкасаемых и прочих кого. Все равны.
— Даже не верится, — старик всхлипнул, вздохнул глубоко: — Страшно и вспомнить, как офицерье с ними… Помню была там, в гнилом квартале, у одних, дочка, смешливая такая, все любила книжки читать. Да… Я с ее родителями очень крепко сдружился, как родные они мне были. А потом началось это — страшное-то. Вывезли их куда-то, родимых-то моих.
При последних словах, лицо его задрожало и стало жалким, глаза наполнились слезами.
— И били то меня, ох как били!
— Это они могли, за просто.
— Бежал, как от огня спасался, ни документов, ни вещей! — сказал старик.
— Ты, видать дед, не скурвился своим сердцем, сразу видно — человек, — произнес солдат с нашивками старшего солдата, сидевший справа, и державший перед огнем, свои сырые портянки — сушил: — Вот утром прийдет капитан, ты ему и доложишься, как подобает, расскажешь о своей беде, а он то тебя пристроит, не даст пропасть. Поверь мне, капитан у нас — о! — и солдат потряс в воздухе кулаком: — Сейчас многие озлобились, хорошие люди на счету. А с кем новую жизнь начинать строить? То-то и оно. Так, что не пропадешь, точно говорю. Может и на должность какую пристроят. Оно может и так быть.
— А я, что? Я ничего, — говорил старик, успокаиваясь: — Подожду. А еже ли обществу послужить, так я с радостью, готов. И опыт у меня — жизненный, большо-о-ой.
И бывший генерал Еже Сум отдал солдату его пустой уже, котелок, с брякнувшей в нем ложкой, кутался поплотнее в шерстяную шаль, и поглядывал через костер, на солдата.
Ночь — тихая, молчаливая, готовилась к рассвету.
* * *
Прошло меньше года.
Смолкли пушки.
Тосия Вак вернулась к себе в комнату, а вскоре вернулся и ее сын.
От веселого юноши не осталось и следа. Перед ней предстал взрослый, немногословный мужчина. Как другой человек, будто выгорело в нем все, что давало радость и прежнюю легкость в общении. Сутулый и худой, с недоверчивым взглядом холодных глаз, он произнес при встрече — мама, и она обняла его, долго не отпускала — без истерики, без слез.
Читать дальше