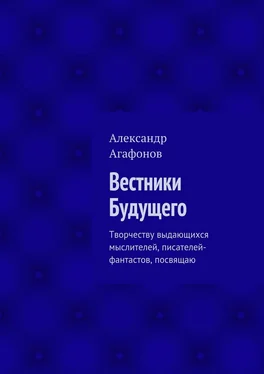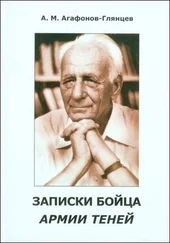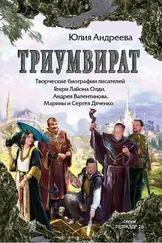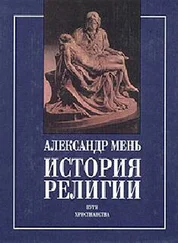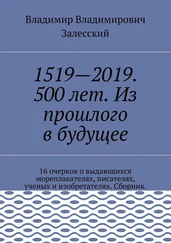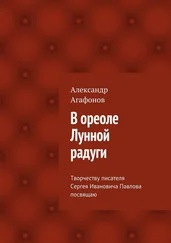И такая вот неподверженность авторитетам не могла, конечно же, – наряду с величайшими достижениями самостоятельной мысли – в обществе людей, далёких от совершенства, не сослужить плохой службы. Являясь одним из активнейших и… авторитетнейших деятелей (тот, кто скептически относится к разного рода авторитетам, не застрахован от возведения в ту же самую «степень», увы) российской социал-демократии, деятелем, не забывавшим о необходимости глубоко продуманной теории, на коей деятельность должна основываться, Малиновский довольно-таки быстро разошёлся во взглядах с бывшим соратником, не менее активным и авторитетным революционером, В. И. Ульяновым-Лениным.
Суть разногласий заключалась в самОм подходе к преобразованию общества: Ленин декларировал – возьмём власть и тогда займёмся просвещением, – и «гегемона» – пролетариата, и крестьянства; а бывший его соперник по шахматным баталиям, ставший оппонентом политическим, полагал, что просвещение первично, и власть – социально ответственную и истинно народную – могут установить только достаточно просвещённые люди.
Отсюда и такая разница в жизненном пути двух деятелей-мыслителей, отсюда и разная степень вписанности в разрушительные для общества процессы.
Впрочем, и в большей мере вписанного в сценарии разрушения Ульянова-Ленина вовсе не зря поименовали «создателем Советского государства». И хотя закулисные режиссёры во многом использовали его энергию для разрушения (а после того, как он сумел выйти из-под их контроля, ликвидировали его), но уже в молодости он выбрал далеко не самую кровавую дорогу, сказав – в связи с казнью своего старшего брата, Александра Ильича (избравшего в качестве метода политической борьбы террор) – широко известное «Мы пойдём другим путём!..»
Александр же Александрович пошёл «третьим путём» – ещё более мирным и эволюционным. Путём неустанного просветительского труда.
Вот небольшие штрихи того, каким – по его мысли – должно быть просвещение, и вообще, педагогика (из «Красной звезды»):
« Первая глава имела прямо философский характер и была посвящена идее вселенной как единого целого, всё заключающего в себе и всё определяющего собой.…
В следующей главе изложение возвращалось к тому необозримо отдалённому времени, когда во вселенной не сложилось ещё никаких знакомых нам форм, когда хаос и неопределённость царили в безграничном пространстве.…
Далее шла речь о том, как материя, концентрируясь и переходя к более устойчивым сочетаниям, принимала форму химических элементов, а рядом с этим первичные, бесформенные скопления распадались и среди них выделялись газообразные солнечно-планетные туманности, каких сейчас ещё при помощи телескопа можно найти многие тысячи.…
– Скажите, Мэнни, – спросил я, – неужели вы считаете правильным давать детям с самого начала эти беспредельно общие и почти столь же отвлечённые идеи, эти бледные мировые картины, столь далёкие от их ближайшей конкретной обстановки? Не значит ли это населять детский мозг почти пустыми, почти только словесными образами?
– Дело в том, что у нас никогда не начинают обучения с книг, – отвечал Мэнни. – Ребёнок черпает свои сведения из живого наблюдения природы и живого общения с другими людьми. Раньше, чем он возьмётся за такую книгу, он уже совершил множество поездок, видел разнообразные картины природы, знает множество пород растений и животных, знаком с употреблением телескопа, микроскопа, фотографии, фонографа, слышал от старших детей, от воспитателей и других взрослых друзей много рассказов о прошлом и отдалённом. Книга, подобная этой, должна только связать воедино и упрочить его знания, заполняя мимоходом случайные пробелы и намечая дальнейший путь изучения. Понятно, что при этом идея целого, прежде всего и постоянно, должна выступать с полной отчётливостью, должна проводиться от начала и до конца, чтобы никогда не теряться в частностях. Цельного человека надо создавать уже в ребёнке».
Иными словами: изучение систем следует начинать «сверху» – составляя некое общее представление о них, ибо, без такового представления можно всю жизнь ковыряться в частностях, но так и не сложить из них мало-мальски отвечающую действительности общую картину. (Наглядное описание серьёзных заблуждений «узких специалистов» заключает в себе притча о слепцах, взявшихся «постичь» слона и делавших совершенно разные, крайне односторонние, умозаключения, порождающие непримиримый спор: «похож на столб… скорее, на верёвку!.. длинная острая кость… высокий свод!.. шершавая занавесь…»)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу