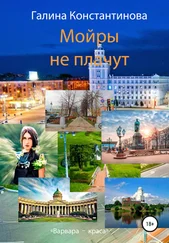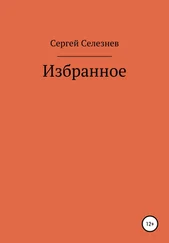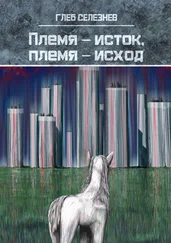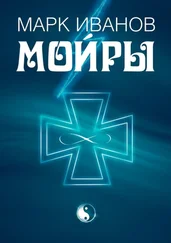Однажды Олег и ещё несколько ребят пробовали бежать из того, первого заведения (детоприёмник какой-то, что ли, – он не помнил названия), но не потому, что плохо жилось, просто скучно было, а побег являл собою скорее очередную мальчишескую игру, из тех редких игр, что вообще у них были. Бежать было несложно – перелезь через забор, и ты на воле. Но воля эта оказалась обманчивой. Прожив на улице пару дней и испытав на себе нелёгкости беспризорной жизни, беглецы, замёрзшие, оголодавшие и раскаивающиеся, вернулись в родные уже для них стены.
В восемь лет Олега по неизвестным ему сейчас причинам перевели в интернат. Сначала, правда, он оказался в каком-то медицинском учреждении, где провёл всего одну ночь. Здесь было много беспризорных пацанов, всяких: и с улиц, и тех, кто ещё ничего не знал об интернатской жизни, и тех, для кого другой жизни вообще не существовало. На следующий день предполагалось пройти медобследование, но врачи что-то там напутали – Олег смутно помнил эти два дня, – и его сразу увезли в интернат. Зато помнил он, как в ночь перед отъездом «бывалые» беспризорники разъясняли ему, как нужно вести себя в интернате. И Олег до конца жил в этом зверинце по заповедям, которые он запомнил в одну бессонную ночь.
В интернате его с первых дней стали называть «карасём», так как он говорил поначалу настолько мало, что никто даже не знал его настоящего имени. Да и, собственно, наплевать тут было всем на его имя, а что касается разговоров, то говорили там, в основном, не языком, а не по-детски набитыми кулаками.
Сначала за него взялись старшие – контингент мальчуганов от 12 до 16 лет, весьма не глупых во всех отношениях с весёлыми, правда, не всегда трезвыми глазами, которые приобретали странный блеск при виде наказания какого-нибудь «малька», шприцов с поставляемым тайно неизвестно откуда зельем и картинок с голыми женщинами. Сами эти пацаны редко кого трогали своими руками – на то были у них помощники, «шестёрки», в которых были посвящены почти все мальки. Да и для того чтобы сделать человека шестёркой битья почти не требовалось – существовали намного более простые и страшные методы, вспоминать о которых не хотелось даже сейчас.
Олег, усвоив одну простую истину, что, сдавшись однажды и показав свою слабость, человек и дальше будет опускаться до самого низа, до дна (хоть и не рассуждал он тогда подобным образом, а просто интуитивно понимал, что будет хуже, больнее), отбивался от них как мог: брыкался, кусался, царапался, но не забивался в угол. «Нельзя» – гласила одна из неписанных заповедей этого маленького, простого и открытого до отвращения мирка. Так старшие от него и отстали, не в силах победить его молчаливого упрямства, и Олег (теперешний, взрослый Олег) понимал как он должен быть благодарен тем двум паренькам в больнице, посеявшим в его сознании зародыши первых законов выживаемости в человеческом обществе. Самых отвратительных законов самого неправильного общества на Земле.
Затем за него принялись «свои», почти ровесники, – девять – одиннадцать лет, мальки. Эти только били, били толпой, основательно и, что характерно, почти без видимой злости. Был это скорее некий гипертрофированный способ знакомства, принятия в свою компанию. Но этим Олег уже мог ответить. Стало легче – драки и стычки конечно всегда имели место в мире интерната, но уже все знали, что молчаливый карась может постоять за себя, а прямые, чистые глаза его не просто так светятся холодной яростью.
Олег ходил уже в четвёртый класс и молча хранил все свои мечты и тайны, а скверный учебный процесс воспринимал не ахти как, когда ему неожиданно объявили, что его забирают в бездетную семью. Олега эта новость ошеломила: всю жизнь жил в детдоме и тут – на тебе. Да и кому понадобился пацан в таком возрасте? Сначала он даже отбрыкивался от воспитателей, уговаривавших его, но потом пришёл толстый, уже не молодой на вид дядька и объяснил, что два года назад его жена и десятилетний сын погибли при роковых обстоятельствах, а Олег ему понравился. В итоге и дядька этот странноватый, но с добрыми и больными какими-то глазами приглянулся Олегу и они вместе уехали в Громянск.
С дядей Володей (папой он его никогда не называл) Олег прожил в комфортной, но пустой какой-то квартире многоэтажного дома до шестнадцати лет, и приёмный отец потянул его за собой на завод, договорившись с начальником своего цеха. Олег начал немного зарабатывать, даже приносить домой еду, особенно в последний год, потому как дядя Володя стал тогда часто пить, работать толком не работал, хотя по старой дружбе его никто и не думал увольнять. Всем искренне жаль было этого человека с пронзительно – тоскливыми дворняжьими глазами. В том числе и Олегу. Говорили они мало, не потому что не о чем было, – просто Олег видел, что приёмный отец смотрит на него с какой-то смущённой горечью, и ему было неловко за это. Сейчас Олег был уверен, что этот несчастный человек усыновил его не потому, что ему нужен был ребенок, а просто, потеряв своего, он как бы желал взамен помочь кому-нибудь из чужих детей. Олег не знал как погибла его семья, но предполагал, что дядя Володя чувствовал в этом свою непосредственную вину и таким вот образом, быть может, её искупал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
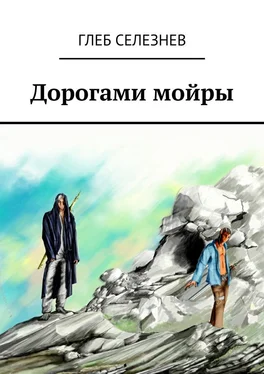
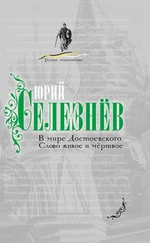

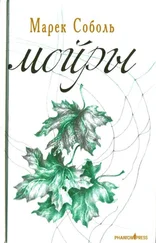
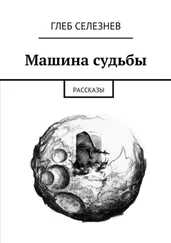
![Михаил Селезнев - Текст Писания и религиозная идентичность - Септуагинта в православной традиции [научная статья]](/books/403570/mihail-seleznev-tekst-pisaniya-i-religioznaya-identi-thumb.webp)